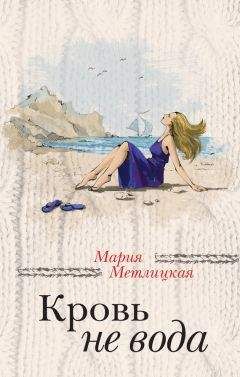Валентин Иванов - Златая цепь времен
Раздвигая густой подлесок, путаясь в крепких влажных папоротниках, мы обошли завал и снова вышли на едва видную тропу. Лес светлел. Редели деревья, ширились просветы. Мы вышли на большую лесную, ярко освещенную солнцем дорогу. Колеса давно сняли тонкий слой лесного перегноя. Дорога лежала широкой полосой светло-желтого песка, с глубокими мягкими колеями. От поросших низкой, редкой травкой обочин лес то уходил глубокими полянами, то наступал вплотную.
Все больше и больше средь сосен коренастых дубов и темных вязов. Чаще клены показывают нежную серовато-зеленую кору и широкие зубцы лапчатых листьев. Вот вправо и влево ушел лес. Дорога раскрылась широкой поляной, и не стало леса. Просторная степь опускается с невысокого пригорка, течет, волнуется оврагами и холмами. Жарко. Солнце печет. Из степи дует ветер, несет вкус пыли и засыхающих трав. Смотрит на леса степь, дышит в лицо сухо и пряно. Против сухого, жадного кочевника-суховея несет пограничную службу Брянский лес.
СЛОВО-ГЛАГОЛ
Вскоре после восхода я задремал незаметно для себя. Я спал недолго, так как солнце, когда я открыл глаза, поднялось невысоко. Дневной ветер еще не проснулся, и гладкая поверхность воды передо мной сияла как стеклянная.
Ночью я хорошо спрятал свою лодку, укрывшись сверху согнутым и связанным камышом. Перед собой я оставил открытый обзор, но никто не мог бы заметить меня с озера, пока я сам не привлеку внимание резким движеньем или шумом. Маленькая утка чирок плыла в трех метрах от моего убежища. Темная бусинка ее глаза встретилась с моим взглядом. Изящная птица чуть задержалась. Я притаил дыханье, стараясь не моргнуть. Птица не вспорхнула: не испуг, а ощущенье чего-то необычного, не больше.
А там, дальше, я увидел лебедей. Семья. Снежно-белая пара старших и два молодых выводка этого года. Ростом они сравнялись со стариками, их выдавал сероватый оттенок пера, заметный лишь по контрасту.
Строгие птицы не знали о моем присутствии и не чувствовали его. Ведь даже домашние животные ведут себя иначе в отсутствие человека. Эти лебеди были, конечно, такие же, как ручные, той же породы и крови, что в наших прудах и зоопарках. Но отличались от тех. О приметах разницы я ничего не умею сказать. Я нашел одно — у этих выражение было другое. Наверное, они были по-настоящему счастливы. И правда, сами вырастили детей, были все вместе, здоровы. И ни от кого не зависели. Они были свободны.
Лебеди не кормились. Они медленно плавали, то сближаясь, то расходясь. И я все время слышал их голоса, без перерыва.
В нашем языке есть очень много слов, которыми называют птичьи голоса. Утка крякает, селезень шипит, голубь стонет, воркует, тетерев чуфыкает, вальдшнеп хоркает… Чибис кричит: чьи вы? Но еще ближе звук его голоса передает народное название этой птицы — пивик. По мелодичному «ку-уль» большого кулика кроншнепа вся эта семья длинноногих получила свое имя. Как-то осенью я слышал, как в камышах кто-то произнес серьезным человеческим голосом: «кукувик». Местные жители сказали, что это была большая северная гагара, которую так и зовут — кукувик.
Стая лебедей, отдыхающая на весеннем пролете, подпускает к себе не ближе, чем на три сотни метров. На этом рубеже слышишь нестройные, неопределенные крики-сигналы тревоги и выражения недовольства, с которым сторожкие птицы снимаются с места стоянки. И еще я, как все мы, знал легенду о предсмертной лебединой песне.
Эти лебеди не кричали, не пели. Слышимое мной было больше похоже на беседу. Они разговаривали, а я старался вслушаться.
Да, они разговаривают, внушал я себе, и вслушивался, вслушивался. Постепенно мой слух, казалось мне, привыкал. Я начинал как будто бы замечать раздельность произносимого, как в незнакомом человеческом языке. Но иначе, конечно, совершенно иначе. Я осваивал не слова, а звуки, чтоб назвать их себе. Я следил — один звук гортанный, один нежный согласный и один мягкий гласный. Да, так, говорил я себе. И наконец, я уверился. Да, три звука, которые по-человечески могут быть названы: ге, эль, с мягким знаком, и — я. Гля, гля.
Для меня это стало ключом. И я понял — услышал, что богатство и разнообразие лебединой речи шло от музыки, от гаммы. Звуки, которые я принял как символы наших букв, произносились лебедями на разные ноты. Но ведь есть и человеческие языки, в которых значение слога зависит от высоты тона. Эта мысль помогла мне, не стало оговорок «казалось», «как будто бы». Лебеди разговаривали, напевая свои серебристо-звонкие слова. И слов у них было много.
Вероятно, я своим слабым человеческим слухом мог уловить не все. Может быть, в их речи были тона, которые оказывались и выше и ниже известных порогов нашего слуха. Тогда я не думал о таком. Я искал слово для названия лебединой речи и нашел его в старом русском языке: лебедь не говорит, он глаголет.
А потом начавшийся дневной ветер подернул озеро рябью, зашелестели камыши. Лебеди, разгоняясь по воде против ветра, поднялись на крыло. Собравшись наверху, они сделали круг над озером, случайным пристанищем, куда они, вероятно, никогда не вернутся, и повернули на юг в ясном воздухе осенней степи. Они были так велики, что уходили с обманчивой медленностью.
ПЕРЕМЕНЫ
Узкая просека в еловом темном лесу. Поперек — огромная паутина, чистая, крепкая, свежая. Только три-четыре хвоинки здесь и там прилипли к толстым прочным нитям.
Паука не видно. Затаился. Наверное, он очень большой. Наверное, он пробегал по своей сети и сам чувствовал, как она вздрагивает от его же движений, и это было приятно ему. И может быть, для развлеченья, он воображал, что кто-то уже попался.
Но нет никого, ничего.
И, спрятавшись, он прислушивается всем своим чутким телом. Он приготовил сеть и идет. Разрушат сеть — он быстро сделает новую, такую же, по себе.
Так же, как человек с его мыслями, надеждами, желаньями, из которых легко ткутся системы, и так же легко разрушаются, и так же восстанавливаются, ибо иначе человеку нельзя.
Тот лес вырубили. Давно вырубили. И выкорчевали пни, распахали землю.
И нет паука-отшельника. Во второй половине августа, в сухие дни, пустив воздушную паутинку, через пустые поля летят по ветру крохотные паучки. Откуда летят, куда, для чего?..
РОЩА
Галька поднималась от воды выпуклым подножием мыса и обрезалась у корней сосен. Там, а не у моря, лежала подлинная граница между сушей и водой. Обкатанные голыши обозначали ничейную полосу шириной шагов в пятьдесят, которой полностью завладевали волны зимних бурь, когда Черное море оправдывает свое имя.
Сосны особенные. Называют их реликтовыми, они описаны специалистами в терминах, немых для непосвященного. Для меня они отличались от других сосен так же явно, как лица и особенно выражения глаз людей разных национальностей. Четырнадцать веков тому назад византийский историк писал, что местные народы почитают здешнюю рощу священной, существующей от сотворения мира.
Выбеленная солнцем галька слепила глаза. Я издали заметил темное пятно на ровном, казалось, расстоянии между спокойной водой и такой же спокойной стеной сосен. Подойдя ближе, я увидел пучок длинных зеленых игл. Бессмысленно отломанная и так же бессмысленно брошенная сосновая веточка. Я нагнулся поднять ее, но она не далась. Что-то держало ее крепко, уверенно.
Я осторожно разобрал гальку и увидел корень, уходящий вглубь. Вершинка его с утолщением, из которого выходили точно такие же иглы, как на взрослых деревьях, уже преобразовывалась в ствол.
Сосновое семечко сумело найти почву где-то глубоко под галькой, проросло, утвердилось, набрало силу подняться к свету дня.
Сосны развиваются медленно. Это семечко начало жить тому назад года четыре, если не больше. Оно сотни раз отражало штурмы ледяной зимней воды, не отравилось солью. Безличной силе безличной стихии живое семя противопоставило себя как цельность, как личность.
Для меня виделось и еще нечто значительное. Я знал о безуспешной попытке разведения этой сосны. Спелые, посеянные по всем правилам семена не принимались в питомнике. Я нечаянно наткнулся на разгадку. Здешнее племя, отъединившись на мысу, пересоздало почву, пересоздало себя. Свои, теперь они могли жить только тут, на собственной земле, в которую они вложили нечто тонкое, неуловимое для химика — свою душу. Деревья не спешат, у них свое время и сроки. Продолжая древнюю традицию, они ведут наступление на галечную полосу, которую я, случайный, счел просто ничейной.
Древние, чтя рощу священной, своим внешним присутствием, дорогой, пашней, препятствовали соснам наступать в глубину мыса и отграничили рощу. Тех людей было немного, и они мешали деревьям невольно. На нетронутом месте сосны жили, умирали, возрождались свободно. Перекрестное оплодотворение внутри одного рода им не вредило, как людям. Их нерастраченную силу подтверждал найденный мной могучий потомок. Его одного было достаточно, чтоб отвергнуть мысль о вырождении.