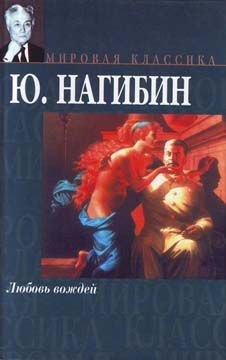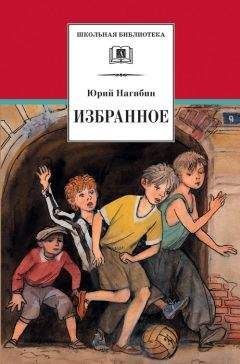Юрий Нагибин - Над пропастью во лжи
- Я понимаю, - он вздохнул и понурил голову, - но все равно вы придумали их примирение.
- Вы ждали от меня новеллу, а не очерк. Новелла же предполагает известную дозу выдумки. - Теперь я в полной мере отдавал должное Лелиной предусмотрительности, обеспечившей мне точку опоры в этом споре.
- Я говорил о документальной новелле, о подлинном случае, которому вы придадите изящную новеллистическую форму. Нам нужна правда, а не вымысел...
"Спокойно, спокойно!.. - сказал я себе и своему гулко забившемуся сердцу. - Что он городит?.. Неужели он хоть на миг полагал, что слащаво-фальшивый бред, который я ему принес, имеет жизненное подобие? Какое же у него представление о мире, о людях?.. Чего доброго, он и мои соцземовские очерки принимает за подлинное и неприкрашенное отражение действительности?.."
Я даже вспотел. А что, если кому-нибудь взбредет в башку проверить на жизнь мою писанину? Да нет, чепуха, он просто рехнулся, этот старый армянин с черными подглазьями. Иначе, как можно так грубо нарушать правила игры?..
И тут меня точно обухом по голове: а вдруг и редактор соцзема принимал за чистую монету грузинского летчика, похитившего самолет, прокаженных с Кавказских гор, старух поползней, лилипутов и прочую нечисть, стремящуюся проголосовать за Сталина? А я-то сам, был ли я на все сто процентов уверен, что Лелины "факты" - плод ее необузданного воображения? До того как я увидел ее игры с дратхааром возле старого дуба, у меня не мелькали сомнения, что она ездит на площадь Журавлева. А коли так, значит, я полагал, что какое-то соответствие жизни есть в ее материалах. И даже после того как обнаружилось, что Леля уходит от меня по утрам вовсе не в дымную даль окраин, а домой досыпать, я не допускал по-настоящему это открытие до своего сознания, играл в прятки с самим собой. Я боялся признаться себе, что Леля всё выдумывает. Мне хотелось верить, что какая-то доля правдоподобия есть в поспешных строчках, заполняющих ее блокнотик.
А сама Леля, когда она занималась мифотворчеством, была ли психологически так уж далека от той условной реальности, в которой все мы существуем? Ведь поначалу она и впрямь раза два съездила на площадь Журавлева, и в бредовости подмененной действительности сделала свое гениальное открытие: чем дальше от жизни, тем больше "жизненной" правды. Как же далеко все зашло, как же абстрагировалось наше бытие, если мы разучились отличать нами порожденную фантасмагорию от действительности, если мы уже не ведаем, когда бредим, когда пребываем в подчинении у сознания!
На все это была философия, а на смену ей пришел простой и серьезный страх. Я испугался, смертельно и навсегда испугался. Человек с подглазьями сделал непоправимое: заронил в меня мысль о возможности проверки. Теперь я никогда не буду знать покоя, теперь я из ночи в ночь буду ждать рокового стука в дверь, буду обмирать при каждом неурочном скрипе парадной двери, каждом гудке машины, проезжающей по нашему переулку, каждом внезапном озарении ночного окна, задетом лучами фар; буду читать смертельную угрозу в каждом взгляде, жесте, усмешке окружающих, каждом вызове в редакцию или в Союз писателей. Едким страхом будет отравлено все мое существование: еда, питье, встречи с товарищами, женщинами...
Словно раненому животному мне захотелось скорее уползти в свою нору и там ожидать конца. Не улыбнувшись, а как-то странно и жалко искривив лицо, я поклонился человеку с подглазьями и побрел домой...
Меж тем шел 1952 год, и у меня достало сил, чтобы в тоске, полубезумии и смертной усталости от непроходящего страха дотащиться до следующего марта, когда сама Смерть проголосовала за Великого кандидата.