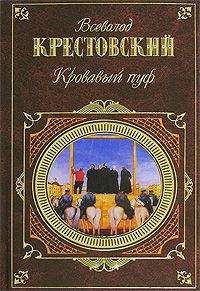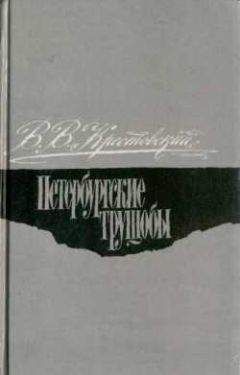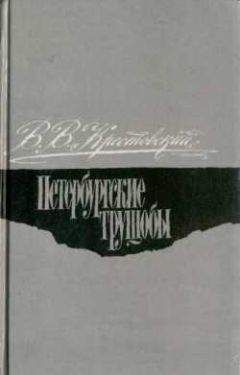Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
— А ну бо, хлопцы! — возвысил он голос (с крестьянами и школьниками Котырло изъяснялся местным говором). — Кто скаже мне цяпер верши? Ну, ты! — обратился он к одному мальчугану из тех, что был побойчее видом, — деклямуй мне верши! "Гуторку двох соседоу" вешь?
— Вем, пане! — бойко вскочил мальчуган с места.
— Ну, деклямуй! А мы послухаем! Они у нас и это умеют! Вы не думайте! — обратился он к Хвалынцеву.
Мальчишка торопливо и монотонно, как заданный урок, стал говорить стихи, видимо стараясь не сбиться и вовремя припомнить следуемое слово:
Мой саколику суседзе,
Муси канец света будзе,
Бо вже надто царь гуляе
И людзей, як псоу, стреляе,
Чувац, што в русской губерни
Гдзе народ яму быу верный
Дзесяць тысяч расстреляли
За то што прауды искали.
— Ну ты, далей! — ткнул Котырло пальцем на следующего мальчугана.
Тот, робея, и еще более боясь как бы не сбиться, продолжал стихи таким же монотонным, но уже заикающимся голосом:
A y Варшаве усе касциолы,
Навет усе жидоуски школы
Ободрали, обокрали,
И люд за касциолоу забрали
Да й у неволю засадили,
Каб больше Бога не хвалили.
— Ты цяпер! Дальщ! — ткнул Котырло еще одного школьника, и тот сразу же подхватил гораздо бойче своего предшественника:
А усе по указу цара,
Може ен нечиста вера,
Антыхрист, што кажуц людзи,
Бо ен вельми круциц, муциц,
Народ Божий баламуциц,
Себе богом называе,
Кто не вериць, тых стреляе.
— От-так, так, хлопче! "Себе богом называе, а кто не вериц, тых стреляе!" Добрже, хлопче! добрже! — перебил его Котырло, видимо довольный всею этою сценою, и потрепал хлопца по щеке в знак своего высшего панского одобрения.
Он не оставил без подобного же благоволения и остальных хлопцев, которые успели отличиться так или иначе перед посетителями, а в знак высшей награды, раздал им несколько копеек и позволил облобызать свою руку. Мальчишки жадно целовали протянутую им панскую длань, но еще жаднее прятали себе за пазуху только что полученные копейки. Последние, как видно, составляли для них лучшее поощрение, чтобы заучивать наизусть подобные "верши".
— Это, конечно, только так… одни лишь шутки, шутки, вы понимаете! — обратился Котырло к Хвалынцеву насчет стихов таким добродушно приятельским тоном, в котором сказывалась как бы просьба о снисхождении и оправдание себя в столь невинной забаве. — Но… знаете, это воспитывает… вкореняет… Это шутки… а они меж тем возбуждают дух… дух, вы понимаете!.. как хотите, а мы все-таки дети Ржечи Посполитой, и этого нам забыть невозможно — никогда и никому, от первого магната до последнего хлопа!
Хвалынцев сочувственно кивнул головой, в подтверждение того, что он действительно понимает; но, в сущности, в голову его засело новое сомнение, вызванное опять-таки новым противоречием. Да и в самом деле, как же это так? Вчера вот в корчме отцы этих детей, в приятельской откровенной беседе, с теплой, живой благодарностью поминают Царя за недавнюю волю, а здесь вот, в школе, дети этих самых отцов, под ферулой пана Котырло, ксевдза и пана органысты, трактуют того же самого Царя антихристом, который себя Богом называет и стреляет в тех, кто не верит в его божественность.
"Конечно, пропаганда", успокаивал себя Хвалынцев. "Это все понятно, как необходимость со стороны пропаганды, но…"
В этом-то "но" и явился камень преткновения, какой-то риф, коварно и предательски скрытый под гладкотекущей поверхностью воды. В пропаганде, направленной подобным образом со стороны помещика, шляхетского пана и "чуть не магната", смутно и почти инстинктивно слышалась Хвалынцеву какая-то ложь, неискренность, задняя, фальшивая мысль, какой-то разлад между лицевою стороною дела и его подкладкой, между жизнью и пропагандой. Но в чем именно кроется этот разлад, эта затаенная фальшь и неискренность, Хвалынцев пока еще не мог объяснить, не умел дать себе ясного отчета. Он только вдруг стал чувствовать, что тут все это дело, кажись, не совсем-то ладно и не совсем-то так выходит, как его уверяли, да и теперь еще всячески стараются уверить.
Потом… потом и еще одно не могло не броситься в глаза: хозяйство пана Котырло так благоустроено, и школа у него такая прекрасная, и так заботился он, по-видимому, об умственной и нравственной пище этих ребятишек, хоть отцы в корчме вчера и сильно-таки поругивали его (ну, да впрочем, темный народ эти отцы!), но вот что грустно: зачем эти мальчишки, то есть большая часть из них, на вид такие все хилые, болезненно-бледные, словно заморенные? Зачем, по крайней мере, две трети из них в эту прекрасную филантропическую школу являются не то что без сапог или в берестяных лапотишках, а чисто-начисто босиком, по холодной ноябрьской грязи и слякоти, и все одеты просто-таки в заплатах, в оборышах, в нищенских рубищах? Отчего это так? Отчего этот пан Котырло, столь богатый и благоустроенный, столь гуманно пекущийся о развитии своих хлопов, которые чуть не вчера еще были его «подданными», не попекся раньше хоть немного о том, чтобы крепостные его в рубищах не щеголяли? Неужели же и в этом все тот же "ржонд москевьский" причинен и повинен?
— Итак, вам понравилась наша школа? — спросил Хвалынцева Котырло, пожимая ему руку с таким радушием, на которое, по-видимому, не могло воспоследовать ничего иного, кроме безусловного комплимента.
— А у вас в России есть подобные школы? — вслед за тем спросил он.
— Может быть и есть где-нибудь, — ответил Константин, — но, говоря откровенно, мне подобное устройство приходится видеть еще в первый раз.
— В России! — пренебрежительно подфыркнул себе под нос Василий Свитка. — В России ничего нет, кроме кнута и острога.
— Грустная истина! — вздохнул, подняв глаза вверх, пан Котырло. — Грустная и горькая истина!.. Но это потому, что в России вообще нет народа, в настоящем смысле этого слова.
Это замечание и удивило, и задело за живое Хвалынцева.
— Виноват, я это не совсем-то понимаю, — заметил он, — и вы конечно извините меня, если после ваших слов я спрошу вас: что вы называете народом?
— Народом!.. Народ — это мы, — уверенно с полным убеждением ответил Котырло.
— То есть… опять-таки прошу извинить меня: кто это мы? Для меня, русака, оно не совсем-то понятно.
— Мы, то есть цивилизованный слой Польши: духовенство, студентство, н-ну, пожалуй, ремесленники вообще, но, главнейшим образом, тот слой, который свято хранит в себе предания заветной вольной старины, предания свободы и Ржечи Посполитой, то есть шляхетство, магнатерия…
— Понимаю, но… все-таки магнатерия не народ.
— А что же? — подняв брови, живо спросил Котырло.
— Магнатерия — это магнатерия, то есть аристократия, каковой она была везде и повсюду, но это не народ.
В ответ на это Котырло улыбнулся очень вежливо, но очень тонкой улыбкой.
— Н-да, я согласен, — сказал он. — В России и даже, пожалуй, везде это так. Но в Литве и Польше, — а в Литве по преимуществу — народ это магнаты.
— Хм… не зная Литвы, не смею спорить, — сомнительно пожал плечами Хвалынцев. — Но мне кажется, что двадцать-тридцать фамилий еще не составляют того, что называется народом.
- О, да! Согласен!.. Ну, а двадцать-тридцать тысяч дворян-помещиков составляют его по-вашему или нет?
— По-нашему? Едва ли?!.. Да и вообще едва ли двадцать-тридцать тысяч составляют народ, там где есть несколько миллионов крестьян; не говорю уже о прочих не шляхетных сословиях.
— Ах, господа москали! Вот и все-то вы таковы! — досадливо, но стараясь не потерять вида любезности, воскликнул, пожимая плечами, пан Котырло. — У вас у всех, только Бога ради извините меня, — у вас у всех, говорю я, совершенно фальшивый взгляд на демократию. По-вашему выходит, что и Мирабо не смеет быть демократом потому только, что он граф Мирабо. Для вас демократия это — мужик, тогда как у нас, поляков, мужик — это есть в сущности не более как сырой, если только не мертвый экономический материал.
Хвалынцев, выпуча глаза, даже откинулся несколько назад от неожиданности такой фразы.
— Не пугайтесь кажущейся резкости такого определения, — мягко, взяв его за локоть, с сладкой убедительностью сказал Котырло. — Не пугайтесь, мой добрый и честный москаль!.. потому что, видите ли, по-нашему народ — это то, что живет, мыслит, чувствует, стремится к свободе, к знанию… то, что цивилизует, подымает нравственно, гуманизирует, образовывает темную, полудикую массу. Вот это народ по-нашему!
— А по-нашему, — возразил Хвалынцев, — это могло быть, пожалуй, вожаками народа, подобно тому как офицеры — вожаки солдат, да и то еще в таком только случае, если бы настоящий народ захотел и согласился признать их за вожаков своих, если бы они сами по духу и по крови принадлежали к тому же народу, были бы, так сказать, плоть от плоти его и кость от кости его.