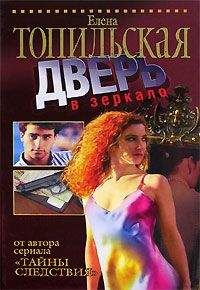Владимир Короленко - Том 9. Публицистика
— Этакой-то залог еще вернее, — прибавил Аверьян. — Поди-ка он теперь, замешкайся или наипаче — в кабак, — сохрани господи, — заверни! Да она ему, на холоду-то настоявшись, голову за этакое дело сорвет. Что, небось, господин, вам это удивительно? — спросил Аверьян, поглядывая на меня исподлобья иронически прищуренными глазами. — Я чаю, в прочих местах вы про этакое дело и не слыхивали?
На этом мы распрощались с Аверьяном. Он отправился к Портянкину, а я пошел на свою квартиру, на постоялый двор. Совсем уж рассвело, хотя солнце всходило неизвестно где, за туманными холодными облаками. Я был уже на лестнице, по которой с таким трудом взбирался ночью, когда над Павловым раздался первый хриплый удар большого колокола.
Мои нервы были напряжены частью от бессонницы, частью от зрелища этих своеобразных форм кустарного быта, так свободно распускающихся на павловской почве, наряду с цветками в «собственных садиках» кустарей. Поэтому я быстро взбежал наверх, разыскал свою дверь и, отказавшись от самовара, кинулся на диван в опустевшей комнате, где ночью спали валенщики. Мне хотелось тотчас же заснуть, пока еще в голову не полезли назойливые мысли обо всем, что я только что видел.
Но, едва успев задремать, я опять внезапно проснулся, как будто кто назвал меня по имени.
В комнате, тщательно прибранной после ночного беспорядка, было совершенно тихо. Тикали часы, где-то за дверями женщина убаюкивала ребенка, напевая вполголоса песню. Очевидно, меня старались не беспокоить тем не менее, я понял, кто меня разбудил от начинавшейся дремоты: удары большого колокола один за другим глухо толкались в тусклые окна, и стекла в старых рамах как-то жалобно звенели в ответ.
Я зарылся с головою в подушки. Но и тут как будто от стен или откуда-то из-под полу все бухали надтреснутые, больные звуки.
И вместе с ними в голове толпились фигуры, сцены, разговоры скупки, толпились беспорядочно и назойливо, как это бывает в бессонницу. И, наконец, как это тоже бывает иногда, я пришел к неожиданному, но вместе неотразимому заключению, состоявшему в том, что мне необходимо познакомиться с Дмитрием Васильевичем Дужкиным.
VII. Легенды о благодетельных скупщикахМы видели, как балагур Аверьян объяснял происхождение скупщицкого сословия: первый огонек в первом скупщицком подвале зажжен врагом человеческого рода, который теперь, в холодные зимние утра, после воскресенья, простирает над скупкой свои темные крылья, смотрит на смятенные павловские улицы, на которых мечется испуганный народ, на огни у входов в подвалы, слушает взаимные покоры и проклятья, любуется делом жадности, вражды и раздора, плодами своей выдумки. А надоест на улицы любоваться — взмахнет лукавый темными крылами, летит на Троицкую, на Семенову гору, где в домах тускло светятся всю ночь огоньки, где «напуганные» бабы ожидают мужей, где у домов благодетелей-закладчиков дрожат заложенные дети…
Один павловский старожил, человек, стоящий по уму и развитию выше кустарной массы, рассказывал мне эту историю более реально:
— Был в давние годы в Павлове Белозеров, знаменитый по округе боес[4]. А в то время в Павлове жили свободно, больше достатков было, и веселились больше, утешаясь кочетиными да кулачными боями. А за замками покупатели наезжали из Москвы и из других мест сами; замок был в цене, за мастерами покупатели ухаживали: пожалуйста, мол, сделай ножей или замочков. «А сколько тебе, добрый человек, надобно?» — «Да дюжин, что ли, хоть двадцать». — «Что больно много? Будет тебе половину, другим тоже нажить сколь-нибудь надобно…» Вот как, по преданию, тогда разговаривали мастера. Наезжали московские купцы в Павлов, хлеб-соль с мастерами водили, и между прочим уважали кулачные бои. Любит московский купец хорошую «стенку». Белозерова они полюбили и стали выписывать в Москву. А потом один купец, Егоров, и научил любимца: покупай павловский товар да вози сюда. Он и стал покупать. Давно это было, еще до француза. После француза кинулись за Егоровым другие… И долго фамилия Белозеровых стояла во главе павловской скупки…
Как бы то ни было, вскоре после того, как один за другим загорелись скупщицкие огни, почувствовали павловцы, что где-то и в чем-то дали они крепкого маху. Исчез от их глаз покупатель, перестал появляться в Павлове, заслонили его стеной свои доморощенные «скупщики», и быстро над деревянными домами поднялись каменные палаты… Пожар от мелких искр, разлетевшихся с Семеновой горы, разливался все шире и шире, ставились горны, укреплялись тиски, и пилы заводили свою скрипучую песню по деревням, по селам, по мелким поселкам. Забыли кустари то время, когда покупатели наезжали к ним, и кланялись, и просили. Теперь сами они слетались уже на огни скупщиков, как слепые мухи на пламя свечки…
И все свои невзгоды мастер олицетворил в скупщике. Далекий рынок, с его меняющимися настроениями, с его колеблющимся спросом, безличный, бесстрастный и стихийный, как океан, исчез от глаз. Между ним и кустарным селом стала фигура соседа, скупщика, юркого, пронырливого, вечно настороже, готового воспользоваться малейшим промахом, неудачей, нуждой… Он явился для Павлова представителем того процесса российской коммерции, которая давно уже выработала известное правило: «не обманешь — не продашь».
Кустарная масса помнила, что там, назади, где-то недалеко, оставлена какая-то возможность иного «мирского» уклада. Так, порой, когда дорога впереди становится все уже и неудобнее, сбившийся путник смутно вспоминает, что недавно было распутье, и начинает догадываться, что он выбрал не то направление. Но вернуться уже трудно… Масса темна, мудрено ли, что все свои беды без исключения она тотчас же приписала скупщику.
На берегу Оки, спускаясь своим грузным подножьем к самой воде, стоит огромное белое здание, состоящее из двух корпусов, связанных поперечною галлереей. Балконы этого дома свесились на реку, а нижняя часть без окон, с тяжелыми воротами, приспособлена как будто к защите от каких-то нападений, может быть, от нападений весеннего половодья, когда волны буйно плещутся в стены, а, может быть, и от чего другого… От здания веет стариной, грузною основательностью, презрением к пустым украшениям и какою-то мрачною опасливостью… Не строят теперь таких палат павловские богачи, и старинное хмурое здание как будто посмеивается над вычурною претенциозностью соседних новейших построек с башенками и лепными карнизами.
Теперь павловские старики смотрят на эту старинную хоромину и вздыхают…
Это — акифьевские палаты. Богаты и славны были Акифьевы и высились над всеми остальными богачами, как высится теперь над селом их старинное жилище. Много молотков стучало, много работало горнов, и пил, и рук мастерового народа, созидая это богатство. По Павлову и окрестностям, говорят, ходили даже акифьевские деньги, и не поминают теперь стариков Акифьевых иначе, как добрым словом: «Вот были торговцы, вот были коренные благодетели народу!» При ком стояли высокие цены? — при Акифьевых. Кто расплачивался с мастеровыми, не утягивая трудовых копеек? — Акифьевы! Кто помогал в нужде мастерам, «подошедшим», как говорят в Павлове, от болезни, пожару или иного невзгодья? — все они же, Акифьевы! Когда в голодный год торговцы стакнулись и подняли цену на муку до рубля пятнадцати копеек, Акифьевы выписали из дальних мест огромную партию хлеба и пустили ее на базар. Акифьевы рубль — и торговцы, хочешь не хочешь, до рубля подаются. Акифьевы восемьдесят пять, торговцы тоже восемьдесят пять. Догнал старик таким способом цену до шести гривен. «Ну, мол, теперь, ребята, сами покупайте».
Вот какими рисует Акифьевых народная память, когда Акифьевы отодвинулись в прошлое.
На Троицкой круче, которую я описывал уже в начале моих очерков, несколько раз впоследствии приходилось мне сидеть в тихие вечера со стариками-мастеровыми. С Троицкой кручи хорошо смотреть на село, на реку, на дальние села и на синие леса, дремлющие в дальних туманах… Хорошо отсюда старикам смотреть своими тусклыми глазами и в глубь воспоминаний. И прежде всего, эти воспоминания останавливаются на белом акифьевском доме.
— Выйдет, бывало, старик на крылец, на ту вон галдарейку, что над водой свесилась, выйдет божий старичок ранним утречком… А вдоль по берегу, вон туда далеко, до самой дальней кручи все его поленницы дров лежали… «Погляди, говорит, Аннушка, — а хозяйку его Анной Митревной звали, — погляди: вон птички божьи мою пшеничку клюют». Хе-хе-хе! Птички божьи — это людишки, беднота павловская дровишки у него грешным делом потаскивают. Ничего! Только с телегой не езди, а на руках волоки… не препятствовал. «Птички, говорит, небесные»…
А, между тем, в свое время не было здания, которое павловцы разнесли бы с таким удовольствием, как акифьевские палаты… Жаль, что у нас на Руси прошлое так быстро исчезает из глаз и стирается в памяти. Теперь только смутные обрывки устных преданий об этой борьбе, первой борьбе кустарной массы с первым напластованием скупшицкого сословия, носятся в тумане прошлого… А, между тем, было это не так давно: не далее тридцатых годов XIX столетия. Однако, все же сохранились еще некоторые эпизоды этой истории павловского раздора. Вспоминают, старики о том, как Флягин, Черников, Цветов и еще несколько павловцев, наиболее решительных представителей бедноты, во главе с умным и настойчивым Капустиным, дерзновенно ворвались в акифьевские палаты, вымеряли все стенки, описали мебель, имущество и промысла всех богачей и представили все это в помещичью контору… Было это во времена крепостного права. Говорят, что помещик убедился этими своеобразными жалобами мира, оскорбленного нарушением равнения, и Акифьевым, Балашовым, Емельяновым, Рябининым грозила беда, если бы не заступилась контора, которую скупщики купили. Дело на этот раз повернулось на сторону богатеев, а семеро самовольных приставов, производивших «буйственным и непорядочным обычаем» опись, попали даже в арестантские роты.