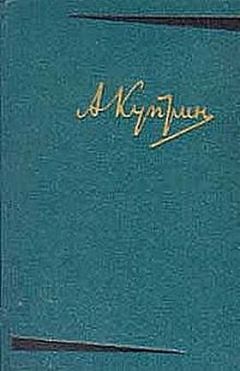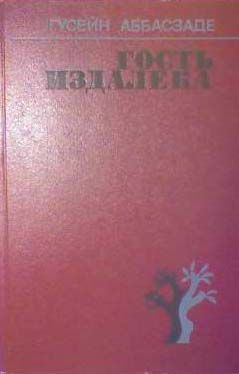Александр Куприн - Молох
На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими двадцатью с лишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и фуражкам, глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось.
Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу.
- Здравствуйте. Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? - спросила она, крепко и нежно пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь?
- И да и нет, - ответил Бобров улыбаясь. - Нет, - потому что я ведь не имею никакого права сердиться.
- Положим, всякий человек имеет право сердиться. Особенно, если знает, что его мнением дорожат. А почему же да?
- Потому что... Видите ли, Нина Григорьевна, - сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. - Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, помните? - я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире... Ах, да что же я боюсь и медлю... Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я...
Он не договорил... Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла.
- Что вы... что такое? - переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом, внезапно, против ее воли, задрожавшим, и опуская глаза в землю.
Она ждала признания в любви, которое всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели.
- Не теперь... потом, когда-нибудь, - замялся Бобров. - Когда-нибудь, при другой обстановке я вам это скажу... Ради бога, не теперь, - добавил он умоляюще.
- Ну, хорошо. Все-таки почему же вы рассердились?
- Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, - ну, как бы это сказать, в самом растроганном состоянии... И когда я вошел...
- То вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина? - догадалась Нина с той внезапной, инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. - Да? Я угадала? - Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взором. - Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга.
Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катанья по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные, - он принял этот вызов очень серьезно и в продолжение целой недели называл ее своим другом, так же как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом: "мой друг", то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом:
- Хорошо, "мой друг", я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым!.. Ах, разве можно передать такие ощущения словами?.. Скажите только, замечали ли вы это?
- Замечала, - отозвалась она почти шепотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах, опустила глаза.
- А потом... потом вдруг, тотчас же, на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню, с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной манерностью во всех поступках... Не сердитесь на меня за откровенность... Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы...
- Я и это тоже заметила...
- Ну, вот видите... Я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?
Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы.
- Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич, - сказала она с упреком. - Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности... Я иду туда, куда идут все, гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности... Но я с другими не чувствую ее тяжести, а с вами... с вами я всякую меру теряю, потому что... - она запнулась, - ну, да все равно... потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека я никогда еще в жизни не встречала.
Ей казалось, что она говорит искренно. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва - все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное.
- Я знаю, что вы меня считаете кокеткой... Пожалуйста, не оправдывайтесь... И я согласна, я даю повод так думать... Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим! Или эти два студента... Красивый мужчина уже по тому одному неприятен, что вечно собой любуется... Поверите ли, хотя это, может быть, и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины.
При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы! Он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам.
- Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой.
Нина быстро спохватилась.
- Ну вот, какой вы, право. С вами нельзя разговаривать... Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!..
Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью:
- Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать!
- Я не знаю... не помню, - замялся расхоложенный Бобров.
- Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверно, давно уже заметила... но что? Вы этого не докончили... Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!
Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка - лукавая, и обещающая, и нежная в одно и то же время... Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. "Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил", - подумал он, собираясь с духом.
Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры. Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха.
- Так слышите же... Я жду, - шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. - Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете...
Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы... На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров N-ской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, какого не всегда удостаивалось даже самое высшее железнодорожное начальство.
В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнии сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы; бритое, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным; губы складывались в презрительную, кислую гримасу.