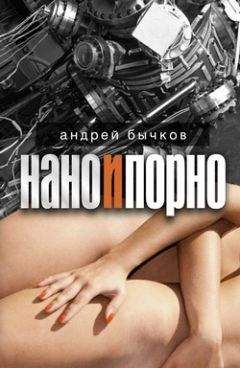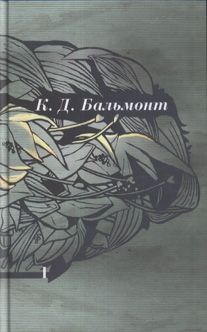Константин Бальмонт - Под новым серпом
- А я захотела, чтобы у моего ребенка были синие глаза, вот они и синие,- с веселящимся гневом сказала Ирина Сергеевна, дерзко и прямо смотря в глаза старухе.
Та выдержала взгляд, не опуская и не отводя своих тяжелых глаз.
- Ну, коли захотела,- сказала она наконец,- против хотенья что же можно сделать? Хоти, хоти, матушка. До многого дохочешься. Может, нахохочешься, может, наплачешься.
Этот краткий состязательный разговор был надолго последней беседой между молодой женщиной и матерью ее мужа. Между ними была уже однажды давно - бешеная ссора из-за дружбы Ирины Сергеевны с Огинским и из-за того, что он слишком часто бывал в гостях и целыми неделями был совершенно неразлучен с молодыми Гиреевыми, подружившись и с ним и с ней. Знакомство с Огинским и его появление в затишье усадебной жизни было как свежий порыв ветра, залетевшего в комнату неожиданно и по-весеннему волнующе. Другой мир пришел в тесноту установленного и застывшего в своем условном уставе мира. Но все это было как песня, которая начинается освободительными веселыми звуками и кончается неопределенным терзающим напевом. Красивый и юный Иван Андреевич, красивый и юный Огинский, они оба в эти весенние часы своей жизни становились то в одну, то в другую минуту каждый красивее самого себя от ощущенья высокого полдня и от неясно сознаваемого, но чуствуемого состязания в поклонении юной желанной женщине. После месяцев душевной опьяненности Ирина Сергеевна вконец измучилась от своих стремительных порываний то к одному лику, то к другому, то к одной душе, то к другой. После красивого внутреннего сближения с Огинским, овеянного поэзией и новизной близкого, но и чужого мира, после вспыхнувшей между ними краткой нежной тайны, тут же и порвавшейся, у Ирины Сергеевны, независимо ни от каких иных соображений, возникло настойчивое желание не видеть его, расстаться навсегда или хотя надолго. Но тем самым ее вдвойне оскорбили назойливые слова свекрови, недвусмысленно требовавшей от нее того, что ею самой уже было решено и осуществлено. "Уж истинно,- размышляла Ирина Сергеевна,- свекор гроза, а свекровь выест глаза. Свекра, к счастью, нет, но свекровь за себя постоит". Ссора была, но скоро и кончилась. А этот столь выразительный краткий разговор о синих глазах в самой своей малости был последней каплей, перелившейся через край чаши. Иван Андреевич узнал об этом разговоре, и не от жены, которая с некоторого времени была с ним странно сдержанна и холодна, а от матери. Несмотря на обычную свою сыновнюю почтительность, Иван Андреевич с глубоким внутренним волнением сказал:
- Матушка, мне очень трудно, но Ирочку я люблю, и нам с ней целую жизнь жить.
- Я и хочу, чтоб вы с ней хорошо целую жизнь жили,- возразила мать.
- Тогда зачем же постоянно вставать между нами?
- А не другой ли кто встал между вами?
- Зачем говорить мне это? Я сам свое знаю. Нехорошо бросать отраву между двоих.
- Я не о себе забочусь, Ваничка.
- Можно так заботиться о птице в клетке, что она от забот о ней ноги протянет.
- Это кто же птица в клетке, ты или Ирина?
Иван Андреевич долго и грустно молчал.
- Что бы ни было,- сказал он наконец,- а становиться между нами нельзя. Я верю Ирочке и люблю ее. А если она меня не захочет, это уж воля ее сердца. Как сердце ей укажет, так и поступит. Я не судья ни ей и никому. Рано меня ставить в судьи. Я не хочу этого.
Такого малодушия и такого беспорядка, как определила положение вещей великолепная уставница Клеопатра Ильинишна, она не могла вынести. Окончательно повздорив и с сыном и с невесткой, она уехала совсем из дому, переехала к племяннице, в другое имение.
Недоброе сердце ушло, и много с ним исчезло серой паутины, которая сплеталась в бесконечную пряжу грязно-дымного цвета и застила свет. Уползла очковая змея, любящая по-своему человеческие жилища и любимой своей пищей избравшая голубиные яйца. В свой час, ослабев, она опять приползла повиниться. Это было слишком поздно.
10
Кто видел сны, тот знает, что длинный сложный сон, обнимающий по содержанию своему длительное время, может присниться в несколько секунд. Подобно этому, в несколько минут, пролетевших как секунды, Ирина Сергеевна, проснувшись первая после счастливой ночи любви, увидела в дымных бегущих призраках и в картинах ярких, но мгновенно тающих, дни сватовства Ивана Андреевича и эти первые годы совместной жизни с ним. Она чувствовала себя освеженной и обновленной, с тех пор как мать Ивана Андреевича уехала от них. Все изменилось в ней и в доме. Она не испытывала к ней ненависти, нет, она даже ее жалела, ей казалось даже, что эта чопорная не такая уж злая и ей не было радостно оттого, что уехала она, конечно, из-за нее, из-за того, что Ваничка встал защитой за нее. Но как ей было радостно в то же время, что ее нет тут, что ее не будет ни через час, ни через день. И Ваничка стал совсем другой. Между ними была серая мгла, которая меняла их лица и скрывала выражение глаз. Не могли глаза читать в близком сердце. А теперь!
Она посмотрела с любовью на лицо спящего мужа. Полоса солнечного света, пройдя через неплотно задвинутую занавеску окна, выходившего в сад, ярко озаряла это лицо, спокойное, довольное, милое.
- Ваничка,- шепнула она, поцеловав его,- вставай, глупенький. Бог знает, как мы проспали.
Ваничка потянулся, усмехнулся, крепко обнял ее за нежную шею и с ласковой шутливостью сказал:
- Сейчас. Проспали-то проспали, да я, пожалуй, в этом не виноват.
Он встал, отдернул занавеску у одного из окон, минутку полюбовался на солнечное утро, подошел опять к кровати, взял с ночного столика папиросу, закурил, поставил ступню правой ноги на край постели, и, опершись правым локтем о согнутую коленку, наклонился к глядевшей на него и, смотря на нее через расходящийся голубоватый дым, стал без конца повторять:
- Ты милая, милая, милая, милая.
Вчера ночью, когда он ложился в постель и свеча была еще не погашена, она снова, с особенной секундною четкостью, какая бывает в видении, заприметила хорошо ей знакомую родинку на смуглой икре правой его ноги. Это было как маленькое солнце, темное, темно-коричневого цвета. Сейчас она опять смотрела на него, и эта родинка, довольно большая и правильно очерченная, совершенный кружочек, волновала ее и возбуждала в ней прилив неизъяснимой нежности. Вдруг, быстро подняв голову и откинувшись от подушек, влюбленная прижалась щекой к этой смуглой ноге и крепко поцеловала это темное солнце. В ту же секунду он упал к ней опять с лицом озаренным, с глазами горящими. Ему казалось, что он в первый раз ее любит, ей казалось, что она любит его в первый раз, и, блаженные, опять они два были одно.
11
Когда охотники в лесу потеряются, разделенные разными манящими целями, и нужно всем соединиться в одном месте, сойтись с добычей и собрать всех собак, забежавших слишком далеко, они, перекликаясь, трубят в рог. Веселый гулкий звук охотничьего рога, поющего переливами в осеннем лесу. Спугнутые, перелетают и стрекочут сороки, взволнованные и озадаченные непривычною музыкой. Весело и радостно лают собаки, узнавая приказ хозяина, успокоенно подчиняясь знакомому зову, разрешающему отдыхом их усталость, не давая им больше вовлекаться в новые поиски, прекращая гон. Падают нарядные желтые листья. Белка, распушивши свой рыжий хвост, перепрыгнет с размаху с дерева на дерево. Мелькнет среди кустов и просвистит синица. Мелькнут на кусте пестрыми нежными сережками гроздья бересклета. Молча радуются сонной своей жизни, приподымая широким белым теменем слипшиеся старые листья, глубью пахнущие грузди. Охотники сошлись. У них веселые глаза и много добычи, а на добычу хотящим завистливым ревнивым и жалующимся лаем, подвизгивая, лают запьяневшие собаки.
Когда деревенские девушки уйдут спозаранку в лес за ягодами, наклоняются они к розовой и красной землянике, поклоняются Матери-Земле, когда рвут ее, дышат духом земным, всеми крепкими лесными выдыханьями, щеки алеют, сердце бьется чаще, уводит их мечта, обещает им мечта, невидимое им видимо, а самое видное незримо, и кружит их тогда Леший, без толку водит все по одним и тем же местам, из которых никак не выберешься, заводит в болото, где зеленые лужайки, но с окнами бездонными. Тут только сказать заговор да громко аукаться. И потерявшиеся девушки аукаются. "Ау!" - звучит из березовой рощи, вызолоченной солнечными пятнами. "Ау!" - доносится из шаткого осинника. "Ау! Ау!" - доходит от болота, где всегда по трясине кто-то ходит, шлепая незримыми широкими ступнями. И за соседним холмом играет эхо. И слышно бульканье в лесной речке, пробирающейся под навесом из ветвей ракит, точно кто-то с косогора скатывает в воду береговые голыши. Девушки сошлись в зеленом свете леса. Ай, подруженьки, сколько земляники-то! Алеют щеки и горят глаза.
Когда ласточка надолго улетает за мошками, жалостно пищат в ее маленьком, из грязи слепленном, круглом домике заскучавшие беспомощные дети. Им тесно, и душно, и голодно без матери. Вот летит она, прилетела наконец, острокрылая, с клювиком, полным всякого добра. Как живительно стало сразу щебетанье малых птенцов. Веселее сразу станет и человеческому сердцу, слушающему снизу, в ином большом доме, прислушивающемуся, летит ли ласточка к своим детям, осуществляется ли в голубом воздухе дня, в его прозрачном золоте, правда и нежность творящей жизни.