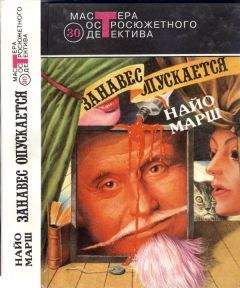Леонид Андреев - Сборник рассказов
– Душегуб, разбойник, – глухо донеслось из-за воротника шубы: – Что хочешь ты делать?
– А там увидишь.
– Слышь, милый человек, не тронь, – сказал сидевший на облучке. – Пра, не стоит.
– Молчи, пока жив! – прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. – Вон из саней!
– Слышь, милый человек…
Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сидении. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.
Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.
Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:
– Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!
Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слыхали те, что стояли друг перед другом.
– Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! – произнес тихий, старческий голос.
Молчание.
– Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?
Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.
– Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в царствие небесное, а вы?
Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:
– Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.
– Батя, Прости, – прошептал высокий.
– Прости, батя, не будем, ей-Богу, больше не будем, – присоединился второй, поднимая голову.
Священник молча повернулся и пошел к саням.
Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.
– Говорил, милый человек, не тронь. Эх! Скидывай-ка пояс!
Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.
– Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс, – обратился он к другому.
– Ну, ну! – слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.
– Отпусти их, Степан, – сказал священник.
– Как это можно, отец Иван. Меня попадья заругает.
– Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.
Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.
– A c топором-то, милый человек, простись, – проговорил он, трогая лошадь.
Вскоре и сани и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:
– Говорил, не тронь. Эх…
Изумленная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.
– Пойдем!
Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.
1899 год
Ангелочек
I
Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.
В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.
– Где полуночничаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:
– Статистики, одно слово!
Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.
– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.
– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.
– Ей-Богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.
– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.
Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.
– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.
– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.
– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!
Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.