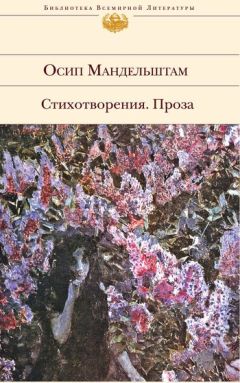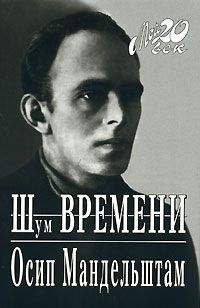Осип Мандельштам - Эссе
Мы помним всё: парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кёльна мощные громады.
Но более того, у Блока была историческая любовь, историческая объективность к домашнему периоду русской истории, который прошел под знаком интеллигенции и народничества. Тяжелый трехдольник Некрасова был для него величав, как "Труды и дни" Гесиода. Семиструнная гитара, подруга Аполлона Григорьева, была для него не менее священна, нежели классическая лира. Он подхватил цыганский романс и сделал его языком всенародной страсти. Кажется, будто высокий, математический лоб Софьи Перовской в блистательном свете блоковского познания русской действительности веет уже мраморным холодком настоящего бессмертия.
Не надивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу. Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соловьев и Ключевский, именно Ключевский, добрый гений, домашний дух - покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания.
Блок был человеком девятнадцатого века и знал, что дни его столетия сочтены. Он жадно расширял и углублял свой внутренний мир во времени, подобно тому как барсук роется в земле, устраивая свое жилище, прокладывая из него два выхода. Век - барсучья нора, и человек своего века живет и движется в скупо отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расширить свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы. И, движимый этим барсу-чьим инстинктом, Блок углублял свое поэтическое знание девятнадцатого века. Английский и германский романтизм, "голубой цветок" Новалиса, ирония Гейне, почти пушкинская жажда прикоснуться горячими устами к утоляющим в своей чистоте и разобщенности, отдельно бьющим ключам европейского народного творчества: английского, французского, германского, издавна мучила Блока. Среди созданий Блока есть внушенные непосредственно англо-саксонским, романским, германским гениями, и эта непосредственность внушения еще раз заставляет вспомнить "Пир во время чумы" и то место, где "ночь лимоном и лавром пахнет", и песенку "Пью за здравие Мэри". Вся поэтика девятнадцатого века - вот границы могущества Блока, вот где он царь, вот на чем крепнет его голос, когда его движения становятся властными, интонации повелительными. Свобода, с которой обращается Блок с тематическим матерьялом этой поэтики, наводит на мысль, что некоторые сюжеты, индивидуальные и случайные до последнего времени, на наших глазах завоевали гражданское равноправие с мифом. Таковы темы Дон-Жуана и Кармен. Сжатой и образцовой повести Мериме повезло: легкая и воинствен-ная музыка Бизе, как боевой рожок, разнесла по всем захолустьям весть о вечной молодости и жажде жизни романской расы. Стихи Блока дают последнее убежище младшему в европейской семье сказанию. Но вершина исторической поэтики Блока, торжество европейского мифа, который свободно движется в традиционных формах, не боится анахронизма в современности - это "Шаги Командора". Здесь пласты времени легли друг на друга в заново вспаханном поэтическом сознании, и зерна старого сюжета дали обильные всходы (Тихий, черный, как сова, мотор... Из страны блаженной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха).
1922
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: "Шатром гигантских крыл он пригнетен к земле".
Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешкова-тыми и грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно, прикрытый огромной палаткой непомерных крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению.
Гигантские крылья девятнадцатого века - это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характе-ром, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз - познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и в будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху.
Державин на пороге девятнадцатого столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия:
Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Здесь на ржавом языке одряхлевшего столетия со всею мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего - извлечен из него высший урок, дана его основа. Этот урок - релятивизм, относительность: а если что и остается...
Сущность познавательной деятельности девятнадцатого столетия заключается в проекции. Минувший век не любил говорить о себе от первого лица, но он любил проецировать себя на экране чужих эпох, и в этом была его жизнь, его движение. Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскидывал по черному небу истории: гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или иной кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось.
И не один прожектор шарил по этому страшному небу: все науки превратились в собствен-ные, отвлеченные и чудовищные, методологии (за исключением математики). Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным,- все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку: сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия: на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться "введениями в философию", вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а небо этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологическими щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте.
Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут выше минералов.
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием научной мысли девятнадцатого столетия?..
Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой мысли и деятельности. Ненависть к жречеству, иератическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови. Не будучи веком социальной борьбы по преимуществу, он был промежут-ком времени, когда общество болезненно чувствовало касту. Унаследованный от средневековья детерминизм тяготел над философией и просвещением и над его политическими опытами вплоть до "tiers etat"*.
* "Третье сословие" (фр.).
Каста жрецов, каста воинов, каста земледельцев - вот понятия, которыми оперировали "просвещенные умы". Это отнюдь не классы: все перечисленные элементы мыслились необходимыми в священной архитектонике всякого общества. Огромная накопившаяся энергия социальной борьбы искала себе выхода. Вся агрессивная потребность века, вся сила его принципиального негодования обрушилась на жреческую касту. Казалось, вся наковальня великих принципов служила только для того, чтоб выковать молот, которым можно было бы сокрушить ненавистных жрецов. Не было столетия более чуткого ко всему, что пахнет жречеством,- кадильный дым и всяческие курения обжигали его ноздри и заставляли выпрямляться позвоночник хищного зверя.
Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон...
Литургия была занозой в теле восемнадцатого века. Он не видел вокруг себя ничего, что так или иначе не было бы связано с литургией, не происходило бы от нее. Архитектура, музыка, живопись - всё излучалось из одного центра, а этот центр подлежал уничтожению.
В живописной композиции существует один вопрос, обусловливающий движение и равновесие красок: где источник света? Так восемнадцатый век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а в вспомогательную, утилитарную, сочиненную для удовлетворения назревшей исторической потребности.