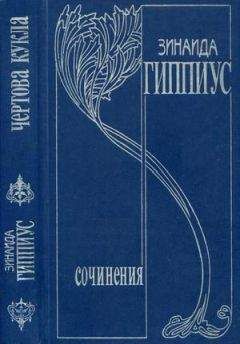Зинаида Гиппиус - Чертова кукла
Лизочка только руками всплеснула.
— Батюшки, срам-то какой! И неужели ж они тебя за этакие вещи об выходе не попросили?
— Ничегошеньки. Я думала не то. Думала скажу — да вдруг они все поснимают. А не то закричат: хвастаешь, так раздевайся, а мы не в бане. Мне же, признаться, не хотелось. Однако, милая моя, ничего подобного, а прямо фурор. За мое здоровье чашками так и хляскают, кричат, что я вернее всех сказала, что выше их понимаю, что они, действительно, не готовы. Говорили-говорили, Морсов в хламиде путается, другой там был, черненький, в коротенькой юбчонке, на кушетке лежит, кричит: мы старые люди, но мы идем к новому! Скандалили довольно.
— Весело, значит, было?
— Нет, милая моя, скучища. У меня уж глаза повылезали. Да и они — поговорит один, выпьет, другой об том же начнет. Вот и веселье. Ну, наугощались, конечно. А так чтоб особенного — ничего.
— Мне было забавно, — сказал Юрий. — Я все на Верку смотрел. Вот важничала, курсистка.
— Наконец, того — сон меня стал на этой кушетке клонить. А Морс пристает: София, скажи стихи свои!
— На «ты» уж к тебе?
— Все на «ты», по условию. Дамы там, солидные видно, им тоже все «ты». Ну, я сначала, конечно, ломаюсь. После говорю, хорошо, только что припомню из старого. Не будьте строги. Все он меня научил, да уж потом я и сама разошлась, вижу, как с ними надо.
— Неужели помнишь стихи? — спросил Юрий. — Помнишь, так скажи Лизочке.
Стихи тогда Юрий сам старательно — не сочинил, он не умел сочинять, а составил для Верки. Составил с расчетом и со знанием, как дела, так и вкусов тогдашних.
Теперь Юрий, конечно, не помнил ни одного слова. Так давно все это было, так устарело. Но ему забавны казались воспоминания Верки: ведь для нее это приключение осталось свежим и важным.
— Ах, не припомню я, — сказала Верка. — После больницы уж не та у меня память. Погоди-ка.
Она встала в позу, опустив руки, наклонив голову, и начала нараспев, густо. Голос у нее был довольно приятный.
Я вся таинственна,
Всегда единственна,
Я вся печаль.
И мчусь я в даль,
Как бы изринута
Из чрева дремного…
Не семя ль темное
На ветер кинуто?
В купели огненной
Недокрещенная,
Своим безгибельем
Навек плененная…
Душа скитальная…
Верка запнулась. И повторила беспомощно:
Душа скитальная…
— Ну? Что ж ты? — поощрил Юруля. — Вали дальше. Длиннее было.
Он тогда очень старался, чтобы стихи составить средние, чтобы не пересолить в пародию. И действительно, пародии не было.
Верка припоминала:
Душа скитальная…
— Так вот хоть ты что! Больше, ей-Богу, ни-ни, ничего не помню!
Лизочка была разочарована.
— Ну-у! — протянула она. — Я думала, интереснее что-нибудь. И так заунывно и говорила?
— Так надо.
— Что ж они? Понравилось?
— Должно быть, понравилось. Руки мне жали и объясняли, что это значит.
— Что же?
— Ну, я уж не слыхала. Устала, беда! Целый вечер на этой кушетке, да гляди строго, да молчи, — оно доймет!
— Ишь ты, бедненькая! — пожалела Лизочка. — Я бы не выдержала. И, главное, ради чего, коли веселья никакого не было.
— Нет, в начале смешно. После только наскучило. Ну, побаловались они еще, затем платья свои понадевали — и по домам. А уж потом я не знаю, было ли у них еще, нет ли.
— Может, они потом без костюмов, Юрка, а? — спросила Лизочка.
Юрию надоело. Он зевнул.
— Не знаю. Я больше не был. А потом за границу уехал. Да нет, теперь уж ничего этого нет. Мода прошла. Теперь не дурачатся, теперь серьезно, лекции читают.
— Ну, лекции…
— Ничего, ты пойди как-нибудь, послушай, я тебе билет дам.
— И мне дай, — попросила Верка. — Не выгонят?
— Нет, нет, в общей зале. Садитесь смирно и сидите.
— Скука?
— Еще бы. А надоест — уйдете. Вот, признаться, вы мне теперь обе ужасно надоели. У меня к тебе дело было, Лизок, да скучно, и некогда теперь. Как-нибудь после. Отдохну и поеду. Обедаю я в одном месте нынче.
Он встал и открыл окно. В столовой было накурено. Верка, превратившись в горничную, принялась убирать со стола.
В эту минуту в передней зазвонили.
Лизочка прислушалась и вдруг вскочила, подхватив ленты своего капота.
— Вера, Вера, — зашептала она. — Живо! Все со стола вон! Это Воронка, я его руку знаю! Ключа-то не даю, дудки! Не иначе как опять забыл что-нибудь утром, растеряха! В спальной не убрано? Ладно, я прямо в постель, скажи, барыня еще не вставала… Юрунчик, прощай.
Она подскочила к Юрию, на лету чмокнула его и исчезла.
В один миг стол опустел, как будто ничего на нем никогда и не стояло. Юрий неслышно скрылся. И Верка уже отворяла дверь, скромная и ловкая в своем белом переднике, извинялась перед барином, что не сразу услыхала звонок, докладывала, что барыня опять започивали и не велели себя будить.
Дядя Воронка доверчиво пошел сам в спальню. Он только на минутку. Он, действительно, забыл утром у Лизочки какой-то, никому, кроме него, не нужный портфель.
Глава десятая
НА ФОНТАНКЕ
Необыкновенно унылая квартира — квартира графини. Весь дом унылый, старый, — ее собственный. Такие бывают казенные дома, казенные квартиры. Окна темные, высокие, с мелкими и будто всегда грязными стеклами.
Комнат непомерно много, половина из них — бесполезны. Какие-то буфетные, какие-то угловые. У графини своя гостиная, своя столовая, где с нею обедает Литта и две чрезвычайно приличные приживалки. Николаю Юрьевичу подают особо, да, кажется, и готовят особо. Юрий, когда жил на Фонтанке, обедал тоже с сестрой и графиней.
К отцу Юрий чувствовал дружеское сожаление. Он болен и в зависимости от графини. Считал, однако, что отец малодушен и слишком рано озлобился. Мог бы, если б не капризничал, поддерживать некоторые связи, и вообще жить гораздо приятнее.
Он ласково и шутливо выговаривал ему подчас. Николай Юрьевич махал рукой, но потом оживлялся и даже начинал доказывать себе и Юрию, что вовсе он не так опустился и вовсе не так уж его забыли. Вряд ли он любил сына, однако ценил посещения: они развлекали и утешали его. Веселый, красивый, уверенный и здоровый Юрий ему нравился.
На дочь Литту он не обращал никакого внимания. Графинина внучка.
В этот день Юрий пришел часа в два, посидел у отца, а после пил чай с сестрой. Графине нездоровилось, она не выходила.
— Отчего ты теперь не живешь с нами? — спрашивает Литта тихо.
В доме все тихо говорят.
Юруля смотрит на сестру, на ее еще по-детски распущенные волосы, бледные, связанные черным бантом, и улыбается.
От его улыбки в комнате делается уютнее.
— Почему не живешь с самой заграницы? — опять спрашивает Литта.
— Разве я не живу? Я часто ночую. Там, на Острове, мне ближе к университету, ты знаешь. И заниматься удобнее.
Но Литта качает головой.
— Разве здесь мешают? Твоя комната самая хорошая. Большая. И прямо из передней. Ничего не слышно. Да ведь у нас нигде ничего не слышно.
Юруля опять улыбается.
— Скучно у вас очень.
— Юруля, а я тебя боюсь.
— Неправда. Меня никто не боится. Это глупости.
Литта краснеет и делает сердитое лицо.
— Да, не боюсь. Это не то. Но как-то я тебя не понимаю. Не знаю.
— И я тебя не знаю, сестренка. А зачем знать друг друга?
Литта удивилась, но ничего не сказала. Помолчала, подумала.
— И от отца, и от графини — такая скука идет, — сказал Юруля искренно. — Я тут бы не мог все время жить. А иногда люблю.
— Юра, мне хочется в гости к тебе. Да ведь бабушка не пустит.
— Ничего, потом пустит. Ты с кем выходишь?
— С ней выезжаю, в Летний сад. Или, иногда, с Maрьей Владимировной.
Марья Владимировна — одна из важных графининых приживалок.
— Прежде было лучше, когда miss Edd жила, — продолжала Литта. — Но выдумала бабушка вдруг, — не надо гувернанток, порча — гувернантки, и вот я теперь одна-одинехонька. Только учителя и учительницы целый день, приходящие. Надоело уж.
Юруля глядел на нее и думал что-то свое.
— Ну, не ной, — сказал он. — Ты пока слушайся старухи. Понемножку будешь свободнее, со мной станет пускать. О гувернантках не жалей. Графиня это не глупо выдумала — вон их. Характер только портят. — И вдруг добавил, по какому-то внутреннему сцеплению мыслей: — Что, Саша Левкович у вас бывает с женой?
— Отчего ты спросил? Да, был раз, еще когда ты не приехал, когда только что женился. Ах, Юра! Она прехорошенькая, но ужасно странная. А ты, оказывается, давно с ней знаком?
— Давно, прежде… Когда еще отец ее был жив. Еще и Саша ее не знал.
— Ну, когда это давно? Ей и теперь с виду четырнадцать лет. Бабушке она не понравилась.