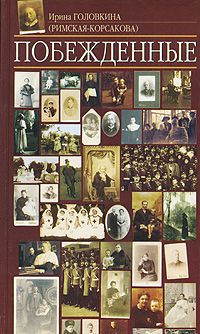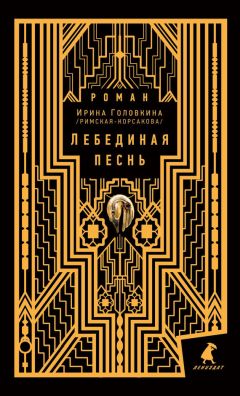Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Побеждённые
— О, не думаю, не думаю! Большевики слишком прочно засели в Кремле, — печально сказала старая дама.
— А как дела у Лели на бирже труда? Приняли ее, наконец, на учет? — спросил Сергей Петрович.
— Еще не знаем, — ответила Ася. — Она обещала прибежать сегодня, чтобы рассказать. Там, на бирже, заведует списками некто товарищ Васильев. Этакий рыбий жир. Товарищ Васильев уже четыре раза отказывался принять ее на учет, а добиться переговоров с ним тоже очень трудно.
— Вот где бюрократизм-то! — возмутился Сергей Петрович. — Для того, чтобы записаться в число безработных, нужно получить с десяток аудиенций у этой высокопоставленной креветки. Сидит, конечно, в фуражке, курит и отплевывается на гобелен. Лорд-канцлер новой формации! С наслаждением отдал бы приказ приставить к стенке этого товарища Васильева.
— Это не бюрократизм, Сережа. Это их система, их классовый подход, — возразила Наталья Павловна, — они не поставят Лелю на учет, потому что она внучка сенатора и дочь гвардейского офицера. Последний раз этот товарищ Васильев сказал совершенно прямо: «Мать ваша нетрудовой элемент, а отец и дед были классовыми врагами».
— Вчера Леля, уезжая на биржу, забежала сначала к нам, — вмешалась Ася, — мы все вместе старались придать ей пролетарский вид. Знаешь, дядя, мы замотали ей голову старым вязаным платком, а потом раздобыли у швейцарихи валенки и деревенские варежки, и получилась самая настоящая матрешка. Мы стоим и любуемся своей работой, а в это время входит Шура и заявляет: «В этом шарфике вы очаровательны, Елена Львовна, но вид у вас в нем сугубо контрреволюционный!». Это любимое выражение Шуры. У него все «сугубо» и «контро». Нам осталось только руками развести: «Вот тебе и на!».
— Ну, Шура и сам выглядит не менее «сугубым». Если бы на биржу отправился подобным же образом он, то и его не приняли бы за «товарища», — сказал Сергей Петрович.
— Шура на биржу не пойдет, у него нет нужды в работе. Он сам сказал: «Пока Бог даст здоровье моей тетушке в Голландии, я могу не встречаться с товарищем Васильевым». Почему это так, дядя?
— Сестра мадам Краснокутской высылает ей из Амстердама гульдены, а Шура все-таки подрабатывает переводами, — объяснил Сергей Петрович.
— Да, он переводит сейчас письма Ромена Роллана. Он очень хорошо знает литературу и может интересно говорить о ней, но… Слишком он весь изнеженный, избалованный. Я таких не люблю. Его мамаша всегда боится, что он простудится, заботится о нем, как о маленьком — это смешно! Мне нравится в Шуре только его доброта. Вчера, когда он провожал меня с урока музыки, к нам подошел человек весь в лохмотьях, но с университетским значком. И вдруг этот человек говорит: «Помогите бедствующему интеллигенту!» Шура выхватил тотчас бумажник и вынул все, что там было. Потом он обшарил свои карманы и даже вытащил рубль, завалившийся за подкладку. При этом у него дрожали руки. Тут я вдруг разревелась самым глупым образом. Но для того, чтобы влюбиться, мне доброты мало. Вот если бы он хоть немного походил на Гавена у Гюго или дрался за Россию, как папа, тогда бы я его полюбила.
— Тогда бы он давно был в концентрационном лагере, Ася. Те, кто любил Родину, все там.
— А ты, дядя?
— И я там буду. Все там будем.
Наталья Павловна положила вилку и нож.
— Даже в шутку не говори так, Сергей!
Наступило молчание. Каждый угадывал мысли другого. Первой заговорила Ася:
— Вот шекспировский Кориолан мне тоже нравится, когда он говорит: «Я, я — изменник?». Так мог бы сказать белый офицер?
— А кто тебе позволил читать Шекспира, Ася?
— «Кориолана» дядя сам прочел мне вслух.
— Ну, это другое дело. Однако, Ася, мы успеем кончить картофель прежде, чем ты принесешь нам соус.
— Прости, бабушка! — Ася убежала в кухню. Через минуту она уже уселась на свое место, но, едва съев кусочек, положила вилку и снова защебетала:
— Какое для нас счастье, что ты попал в оркестр, дядя. Ведь иначе у нас не было бы лазейки с артистического подъезда? Я страшно хочу услышать Девятую симфонию и хор «К радости». Я очень-очень счастливая! Ты, бабушка, часто смотришь на меня с грустью и совсем напрасно. В жизни столько интересного, и каждый день выплывает что-нибудь новое, что хочется увидеть, услышать или прочитать. Досадно только, когда вы мне говорите: «Это рано, это вредно», когда я лезу на лесенку в дедушкиной библиотеке. Вчера дядя вырвал у меня из рук «Дафнис и Хлоя», а я только страничку прочитала. Я боюсь, что библиотека будет распродана прежде, чем я ее прочту.
— Кстати, Ася! Мадам говорила, что под подушкой у тебя вчера опять лежала книга, — сказала Наталья Павловна, — а я ведь запретила читать тебе в постели.
— Это не книга, бабушка, это Шопен.
— Шопен? Зачем же он под подушкой?
— Так надо, бабушка, вот он пролежит ночь, а утром я играю наизусть то, что просматривала вчера.
— Ты и без этой телепатии играешь все наизусть, Ася, — сказал Сергей Петрович, вставая и целуя руку матери.
— А что такое телепатия? Ну вот, я уже вижу, что ты ответишь свое «рано» или «вредно»!
— А вот и нет! Для разнообразия скажу: «Отвяжись!». Объяснять у меня нет времени, так как вечером я играю в рабочем клубе и мне надо спешно репетировать «Рондо каприччиозо» Сен-Санса. Попробуй мне проаккомпонировать. Сумеешь?..
Камины еще доживали свой век в старых квартирах, в чьей-нибудь гостиной, где под хрустальной люстрой втиснута кровать, а кресла и рояль завалены старыми портретами или Энциклопедией Брокгауза из только что проданного шкафа. Мелькали еще у огня живые тени минувшего времени. Вот худая рука старика под ветхозаветным манжетом, длинные подагрические пальцы берутся за щипцы; вот освещенный игрой пламени профиль старушки с высоко поднятыми волосами, она зябко кутается в старую вязаную шаль, а безжизненный взгляд остановился на вспыхивающих угольках. А вот две девичьи головки, прижавшиеся друг к другу; одна золотистая, другая потемнее, две пары глаз одинаково смотрят в огонь…
Посмеет ли коснуться юности та обреченность, которая невидимо разгуливает между старой мебелью таких гостиных и отмечает все ненужное для новой эпохи, осужденное на умирание, лишнее, как и сами эти камины, которые скоро заменят газовые калориферы?
Посмеет, как показал жестокий век.
— Он говорил опять, что папа был классовый враг и что революционный пролетариат не может потерпеть в своих рядах остатки аристократии. Дети репрессированных лиц будто бы тем опасны, что они затаили зло. Это я-то опасна! Чем я могу быть опасна, хотела бы я знать? Когда такое говорят твоему дяде, это еще можно как-то понять, но мне! — Леля печально примолкла.
— Это в самом деле странно. Тетя Зина очень расстроилась?
— Конечно. Даже плакала потихоньку от меня. Ведь цветами разве можно прожить? Я вчера целый день вертела эти противные ненастоящие розы, исколола все пальцы. Продавать их все трудней и трудней становится. На работу маму не принимают, а за цветы штрафуют. Последний раз она пряталась от милиционера на пятом этаже какой-то лестницы вместе с бабой, продававшей корешки для супа. Если поймают — берут штраф, который сводит к нулю заработок целой недели. Мама всякий раз так волнуется, когда идет на улицу с цветами, что вся дрожит, а меня отпустить ни за что не хочет; ей кажется, что если с цветами выйду я, то ко мне непременно пристанет матросня, будет… что-то страшное. А я от милиции сумела бы убежать лучше мамы — ноги у меня быстрее. Вчера мама сказала про твою маму: «Какая счастливая Ольга, что умерла в восемнадцатом. Она не узнала тех мучений, которые выпали на мою долю!» Ну зачем говорить такие вещи? От них никому не лучше!
Ася помешала в камине и при его свете взглянула в огорченное лицо сестры.
— Мы с мамой теперь все время ссоримся, ни о чем договориться не можем, — продолжала Леля. — Жизнь такая безысходная, что можно с ума сойти. У твоей бабушки квартира сохранилась, можно продавать вещи, и Сергей Петрович зарабатывает в оркестре; очень много значит, когда в семье есть мужчина. А мы с мамой теперь одни, у нас пустые стены и впереди — ничего, никакой надежды. Оказывается, я дурная дочь! Мне и жаль маму и досадно за нее. Вчера мама опять устроила мне сцену за то, что я пошла на вечерок к нашей соседке-евреечке. Другая наша соседка — та, что слева, Прасковья, монстр и вся пышет классовой злобой, а Ревекка, право же, очень симпатичная и всегда рада меня повеселить. Она со мной даже как будто заискивает, не понимаю почему. И тут, изволите ли видеть, совсем некстати мама со своей гордостью на дыбы: это, мол не твое общество и нечего тебе делать среди этих нэпманов. Noblesse oblige[9] — не забывай, что ты — Нелидова! Но если вокруг нас нет прежней среды, нет grande tenue[10], — что нам остается делать, Ася? Подумай только, напрасно пропадают, уходят наши лучшие годы, наша молодость, которая уже не вернется! Мы не веселимся, не танцуем, сидим, как в норе. Мне скоро девятнадцать, а я еще ни разу не потанцевала. Если нет прежнего общества, надо довольствоваться тем, которое есть, а мама не хочет этого понять.