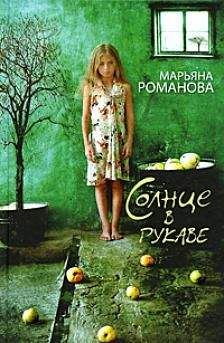Владимир Сорокин - Роман
- Да. Я забыл, что дети не учатся по воскресеньям.
- Но, Роман Алексеевич, взрослые, как мне разумеется, тоже не учатся по воскресеньям.
- Вы правы... Да и вообще, ну ее к чертям эту учебу, службу, зависимость! - весело воскликнул Роман, сдвигая шляпу на затылок и всей грудью вдыхая чудный весенний воздух, - Посмотрите, какая прелесть вокруг! Эти поля, этот лес, ждущий пробуждения. И скоро все это оживет, засверкает, зашумит... Дорогой Николай Иванович, - Роман сильнее сжал локоть учителя, - Я так рад, что снова здесь! Как здесь хорошо. Как чудно. Ей-богу, теперь отсюда - никуда. К черту эти города, эти спруты, перемалывающие людей. Нет ничего лучше и выше природы.
Николай Иванович, улыбаясь, кивал головой:
- Да, да. Но это, милый Роман Алексеевич, вы теперь говорите. А пройдет месячишко-другой, и завоете от тоски. И побежите от этой самой расчудесной природы в ваши, как это вы выразились, спруты-города.
- Да нет же, нет! - горячо перебил Роман, - Не побегу! Вот сердцем чувствую - не побегу! Нет у меня в городе ничего - ни дома, ни семьи, ни друзей. Omnia mea mecum porto. Так что и возвращаться незачем.
- Ну что ж. Посмотрим, - проговорил Рукавитинов, продолжая улыбаться своей тихой, с оттенкой загадочности, улыбкой. Они были почти возле его дома, стоящего по соседству с двумя избами и школой.
- Прошу пожаловать ко мне, - Николай Иванович, словно учительской указкой, махнул палкой в сторону своего опрятного белостенного домика.
- С удовольствием, - охотно согласился Роман, расстегивая пальто. От ходьбы и пригревающего солнца ему стало жарко. Николай Иванович, зажав палку подмышкой, достал из кармана связку ключей, и очень скоро они уже сидели в удобных, хотя и не новых, кожаных креслах, оживленно беседуя. Роман курил, стряхивая пепел в нефритовую пепельницу, Николай Иванович сидел напротив, закинув ногу на ногу и подперев щеку ладонью. Дом Рукавитинова представлял собой обычную пятистенку, только сложенную из кирпича. Полвека назад его построил один богатый мужик, впоследствии продавший дом деревенской учительнице и уехавший в город. Просторная, почти квадратная комната отгораживалась деревянной перегородкой от кухни с традиционной русской печью и служила Николаю Ивановичу кабинетом, гостиной и спальной. Большая часть пространства здесь была занята книгами. Они до отказа заполнили многочисленные книжные полки, висящие то тут, то там, книжный шкаф, буфет, аккуратными стопками лежали на двух столах - рабочем и обеденном, на подоконниках, на отгороженной ширмой кровати и даже на белых выступах небольшой печки-голландки.
Над большим письменным столом висели, как и прежде, портрет Канта в строгой черной рамке, большая гравюра с изображением Вены и любительский портрет маслом покойной супруги Николая Ивановича.
Простенок между окнами был занят развешанными коробками с пришпиленными насекомыми, а именно - жуками, которых Рукавитинов собирал уже лет двадцать. Коробок было много - до тридцати, а покоящихся в них жуков - тьма-тьмущая: большие и маленькие, чудовищные и микроскопические, они располагались ровными рядами, сверкая сотнями оттенков и поражая причудливостью форм.
Эта причудливость конструкций всегда притягивала Романа: будучи мальчиком, он часами простаивал возле застекленных коробок, разглядывая жуков и читая латинские надписи, сделанные каллиграфической рукой Николая Ивановича.
И сейчас, глядя издали на аккуратную коллекцию, он с удовольствием вспомнил, что вон там висит его любимый Acrocinus Longimanus.
- Вы по-прежнему пополняете свою коллекцию? - спросил Роман.
- По мере сил.
- И переписываетесь с энтомологами всех континентов?
- Мои иностранные коллеги не такие уж известные энтомологи. Они собирают жуков. А это дело трудное, хотя бы потому, что их разновидностей и видов не так уж много. Бабочек, например, гораздо больше.
- Да, я помню, Николай Иванович, вы говорили это всегда.
- Ну вот и старый же я попугай! - рассмеялся Рукавитинов, привставая, Знаете что. Роман Алексеевич, коль уж вы пришли, я позволю себе похвастаться...
- Новое приобретение? - Роман тоже встал, оставив папиросу на краю пепельницы.
- Оно самое, оно самое... - Рукавитинов подошел к столу, отпер дверцу, выдвинул ящик и бережно вынул небольшую коробку, обшитую черным бархатом.
- Смотрите, - он открыл коробку, - Это мне прислали из Берлинского музея. В обмен на моих сколий.
Роман взял коробку в руки. На шелковой подкладке лежал жук удивительной красоты. Он был золотисто-зелёного цвета и весь, с витиеватых рогов до задних ножек переливался непередаваемым перламутром, словно светясь изнутри.
- Узнаёте? - приблизился Рукавитинов, - Это гвинейский рогач. А по-нашему Neolamprima adolphinae.
Своими формами жук напоминал облаченного в доспехи самурая, но странные пропорции делали это сходство смешным, отчего жука было немного жалко.
- Чудный экземпляр, - Роман вернул коробку Николаю Ивановичу.
- Еще бы, - с довольной улыбкой ответил тот и принялся убирать коробку в стол.
- Николай Иванович, я вам завидую, - Роман сел в свое кресло и принялся раскуривать потухшую папиросу.
- Есть чему?
- Вашей... - Роман задумался на мгновение, - Вашей воле.
Рукавитинов, улыбаясь, опустился в кресло:
- Можно подумать, что у вас ее нет!
- Такой - нет, - твердо и искренне ответил Роман.
- Ну нет такой - есть другая. Ваша воля. У всех они разные, и, ей-богу, я не верю Шопенгауэру, что волевые импульсы индивидов могут быть соотнесены. Это не мускульное усилие, а нечто другое.
- Но разве мы не говорим, например, что сила воли одного человека больше силы воли другого. Что один - волевой, а другой - безвольный.
Николай Иванович снял очки, протирая их платком, ответил:
- Милейший Роман Алексеевич, а вы твердо уверены, что воля к жизни это и есть главный волевой импульс человека?
- Не совсем понимаю вас.
- Ну а воля к смерти не может быть?
Роман молча пожал плечами. Вопрос Николая Ивановича застал его врасплох.
- И не ошибаемся ли мы, безапелляционно награждая званием "безвольного" человека, сидящего в грязной каморке и пьющего дешевое вино, или какого-нибудь босяка, ставя в пример ему делового человека, трудящегося не покладая рук, пробивающего себе дорогу в жизни, по-нашему - "волевого"?
Роман по-прежнему молчал.
А Николай Иванович, надев очки, продолжал свою мысль:
- На самом деле вполне вероятно, что у босяка-то воля совсем другая, противоположная воле к жизни, как черное противопоставлено белому. У босяка или у пьяницы - это воля к небытию, ибо небытие, то есть покой, не менее притягательны, чем сама жизнь.
"А ведь это верно", - подумал Роман, глядя в спокойное лицо Рукавитинова. - "Но, тогда придется ставить под сомнение весь промысел Божий. Ведь не может же Бог посылать людей на землю, чтобы они стремились к небытию?"
Он уже собрался задать этот вопрос, но в это время протренькал дверной звонок. Николай Иванович удивленно поднял брови, но потом, сморщась, приложил ладонь к виску, покачал головой:
- Аа... Я и забыл совсем...
Он приподнялся с кресла:
- Простите старика. Роман Алексеевич. Я же сегодня трем ребятам назначил прийти. Они болели, по математике отстали. И вот запамятовал, думал, мы с вами чаю напьемся, а вы мне про столицу расскажите.
- Да полноте, Николай Иванович. Поговорить мы в любое время сможем, например, сегодня вечером. У нас. Прошу вас отужинать с нами.
- С большим удовольствием. Я ведь у ваших, не был почти неделю.
- Вот и прекрасно, - Роман встал, и они вместе направились через кухню к двери.
Николай Иванович открыл.
Вошли, тихо поздоровавшись, трое ребят с тетрадками подмышками.
- Николай Иванович, как Красновские? - спросил Роман, надевая пальто.
- Вроде хорошо, - пожал плечами Рукавитинов, показывая ученикам рукой на распахнутую в комнату дверь - Петра Игнатьевича я частенько вижу. Все так же бодр и оптимистичен. И гедонист, вашего дядюшку за пояс заткнет. Все меня в баню приглашает. Париться квасом. Это при моем-то сердце!
Николай Иванович засмеялся.
- Зою вы тоже видели? - спросил Роман, беря шляпу и чувствуя, как забилось сердце при произнесении этого имени.
- Зою. То бишь Зою Петровну. Видел летом... Ну что ж, она очень мила, серьезно и с теплотой ответил Николай Иванович, - И умна к тому же... Вы зайдете к ним?
- Да, - ответил Роман берясь за ручку двери, - Я сейчас же иду к ним.
Николай Иванович улыбнулся своей доброй тихой улыбкой. Его проницательные глаза светились пониманием.
IV.
Впервые Роман увидел Зою Красновскую почти семь лет тому назад. Сейчас ему казалось, что это было страшно давно, - душным июльским вечером он, выпускник университетского юридического факультета, в новом бежевом, но слегка запыленном от быстрой езды костюме, с букетом алых роз, промучившихся ночь в духоте вагона, вбежал по ступенькам дядюшкиного дома и был приветствован десятками радостных возгласов гостей, собравшихся на дядюшкино пятидесятилетие за тремя составленными буквой Т столами, занявшими почти всю террасу. Юбилей удался на славу. Антон Петрович был в ударе: облаченный в белый фрак с огромным малиновым бантом, с разметавшимися прядями, он, казалось, ни на минуту не присел к ломившемуся от яств столу; его громоподобный голос гремел, не умолкая, так что избранному на грузинский манер тамаде - столичному тенору Сергею Никаноровичу Прянишникову оставалось лишь молча улыбаться происходящему и пить свою любимую померанценую. Роман, как и все, тоже много пил, ел, смеялся, слушая то слова Фамусова о девушках-патриотках, льнущих к служивым людям, то поучительные речи Фальстафа, то отрывки из "Сорочинской ярмарки", то мятежный монолог Карла Моора, то, наконец, куплеты-размышления о том, что произошло бы, "если б милые девицы все могли летать, как птицы".