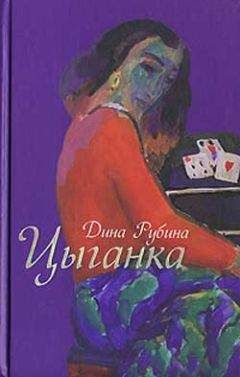Дина Рубина - Когда же пойдет снег
"Случись что-нибудь! - мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам... - Случись что-нибудь!"
И случилось. Как тогда, у подъезда.
- Ты знаешь! - вдруг остановившись, воскликнул он. - Совсем забыл тебе сказать! Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку, из театра!
- Вот так удача, - сказала я страшным голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения. - Надеюсь, на этот раз ты не упустил случая...
- Ни за что бы не упустил! Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы... - он хитро посмотрел на меня, - ...если бы не торопился так к тебе...
...Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну.
Сильный ливень избивал и без того голые, беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени.
Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до рассвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии.
А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям...
Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла.
- Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?! - Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить.
- Ты у нас умница, - серьезно сказал он. - Ты должна нам помочь. Ты же умница!
- Вы думаете, я могущественная, как Микки Маус? - пытаясь улыбнуться дрожащими губами, спросила я.
- Микки Маус тебе в подметки не годится, - так же серьезно сказал он. Можешь взять его к себе в адъютанты.
Выходя из палаты, он остановился в дверях.
- Ну, отдохни еще секунду. Полежи, подумай о чем-нибудь веселом.
Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: "Папа, прости меня! Я всех вас очень люблю!"
И тут я взглянула в окно. И увидела, как на зеленых санках, в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле Гогия, а запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку.
И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону.
Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала: помнит ли она, спустя пятьдесят лет, живое прикосновение своего юного мужа? Помнят ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво.
Но оно живо - его объятие! Оно ходит по земле в образе его сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын! Жива моя мама. Потому, что я жива. И буду жить долго-долго.
"Да, - подумала я, - вот это главное; люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха..."
"А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом, сказала я себе. - О чем же? Ну хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур вроде: "Оперативно здесь делают операции!" А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно, латинскими буквами: "Po blatu"..."
1977