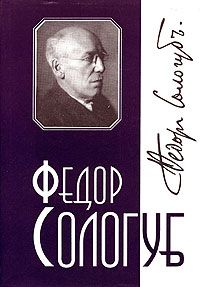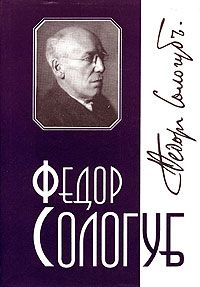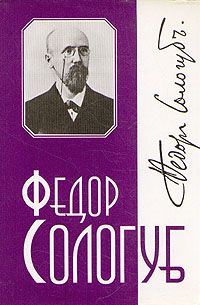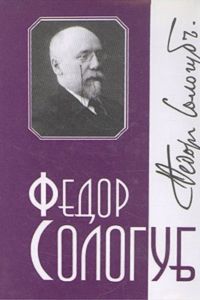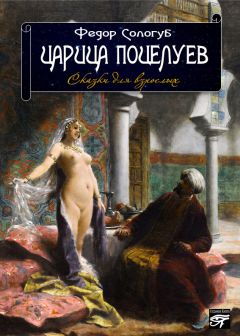Федор Сологуб - Том 6. Заклинательница змей
Когда Любовь Николаевна вернулась, ее встретило безмолвие смерти.
115Ленка сказала Вере:
– Вера, я сейчас была в столовой. На чердаке ничего не слышно. Если Шубников подвернулся…
Она не кончила. Вера сказала просто и спокойно:
– Поднимемся, посмотрим.
– Ты не боишься? – спросила Ленка.
Вера невесело улыбнулась и отвечала:
– Что мне теперь о страхе думать! Надо кончать, нести домой бумагу, потом с верными людьми посоветоваться. А насчет чердака надо знать наверное, не случилось ли там несчастия. Я, как увидела эту игрушку, у меня в глазах позеленело. Вспомнила Шубникова, Малицына, такое меня зло взяло, себя не помнила. Пойдем, Леночка.
Ленка первая взобралась на чердак и помогла Вере подняться туда. На чердаке им показалось сначала очень темно. Но понемногу глаза привыкли к слабому свету, мутно льющемуся из двух слуховых окон. Прошли через эту светлую полосу и опять словно потонули в серой тьме.
Вдруг Ленка слабо вскрикнула.
– Что ты, Леночка?
Вера взяла ее за руку. Ленка шептала:
– Запнулась. Сапог. Здесь он лежит.
Обе нагнулись и всматривались в тяжелое длинное тело, лежавшее перед ними. Вера подвинулась вперед, нашла руку, – холодная, – увидела мертвое лицо: лежит как лежал, на правом ухе. Вера встала на колени, перекрестилась несколько раз. Потом сказала ему отчетливо и громко, точно он мог ее услышать:
– Прости меня, Андрей Федорович. Не знал, куда идешь, и не то сделал, что хотел сделать. Бог рассудит. Прощай.
Наклонила голову, постояла, точно ожидая ответа, поднялась.
– Пойдем, Леночка.
Молча выбрались из домика. На крыльце, когда Вера замыкала дверь, Ленка спросила:
– Вера, что же нам делать? молчать? или заявить?
Вера посмотрела на ясную зарю. Сказала:
– Тяжело, Леночка, да ведь что ж делать? Помолчим лучше. Ключи в Волгу, хозяин сюда не придет, – пусть лежит.
– Будут искать? – спросила Ленка.
– Ну поищут, подумают, сбежал с перепуга. Если будет подозрение на товарищей, скажем. Выстрелы хозяин на себя возьмет. Несчастный случай, никто не виноват, никто не обязан был знать, что он там прячется, подслушивает. За чем пошел, то и нашел.
– Прислуга скажет, – говорила Ленка, – обед сюда носили.
– Чего им говорить! – возразила Вера. – Да, поди, и не узнают. От хозяина прятался, и от других надобно прятаться. Да, впрочем, об этом потом подумаем. Может быть, и заявим. Там будет видно. Теперь домой. Бумагу надо донести да спрятать пока что. Матери скажем, что увидела тебя на пароходной пристани и с тобой в лодке каталась. Уж больно хороша была ночь!
116Когда подошли к подъемному мостику, было уже совсем светло.
– Сейчас солнце взойдет, – тихо сказала Вера.
– Уж очень светло, – говорила Ленка, – как мы пойдем? Встретится кто, догадаются откуда.
– Только бы из калитки выбраться не увидели, – отвечала Вера, – а там кусты. Послушаем, не слышно ли чего.
Постояли молча. Все было тихо. Ленка сказала:
– Я вперед выйду, а ты калитку за мною притвори. Если никого близко нет, я тебе стукну.
Вера подумала и молча наклонила голову. Спустила подъемный мост, отдала Ленке ключ, сама прислонилась плечом к столбу, задумалась. Ленка перешла мостик, отомкнула калитку, приоткрыла ее, просунула голову, – никого не видно. Повернулась к Вере, шепнула:
– Замкни пока.
Вера подошла к калитке. Вдруг послышался треск веток, кто-то сильно рванул и распахнул калитку, – Соснягин. Он оттолкнул Ленку и бросился к Вере. Закричал:
– Ты, ночью, в гореловском саду? Зачем?
– Глеб, успокойтесь. Вера не виновата, – говорила Ленка.
Соснягин кричал:
– Я думал, такой, как ты, и на свете нет, а ты такая же.
– Глеб, послушай, я тебе все расскажу, – спокойно сказала Вера. – Я перед тобою чиста.
– Чиста! – мрачно сказал Соснягин. – Ты мне одно скажи, – ты была ночью у Горелова?
– Была, – отвечала Вера, – но ты дай мне рассказать все.
– Молчи! – крикнул Соснягин, нагибаясь и глядя на нее налитыми кровью глазами.
– Глеб, я не боюсь твоего ножа, – сурово сказала Вера.
Ленка цепко ухватилась за правую руку Соснягина. Он рванулся. Почувствовал, что Ленка ловка и сильна. Выпрямился.
– Глеб, мы вместе с нею были, – говорила Ленка.
– С подружкою веселою, – язвительно усмехаясь, прошептал Соснягин.
Вера говорила:
– Глеб, успокойся, пойдем домой, по дороге я тебе все расскажу.
– Змеиными сказками позабавишь? – все с тою ж усмешкою говорил Соснягин.
Вдруг он весь изогнулся, левою рукою выхватил из голенища нож, неистово крикнул:
– Змея!
И ударил Веру ножом в грудь. Вера стремительно опрокинулась на деревянную настилку мостика.
– Вера, Вера! – пронзительно закричала Ленка.
Оттолкнула Соснягина, бросилась к Вере, – заклинательница змей умирала.
Статьи, эссе, заметки
Смертный лик Гюи де Мопассана*
Гюи де Мопассан очень любим в России. Может быть, потому, что никто так не выразил гения латинской расы, как он.
Ум точный, ясный, приемлющий мир, – и загадочная наклонность уйти из этого мира вовсе, тенденция к декадансу и смерти, – вот отличительные черты расы, с удивительною силою сказавшиеся в Мопассане; и в его творчестве, и в его жизни, блестящей в своем течении и страшной в своем конце. Это же сказалось и в наружности Мопассана, насколько мы знаем ее по портретам. Беззаботное лицо доброго малого и страшное напряжение мысли в морщинах невысокого, рокового лба. Отмеченное лицо, – как было отмеченным лицо Ницше.
Творчество Мопассана было, по-видимому, сплошь приятием мира в его повседневности. Альдонса, которая Дон Кихоту была только основою для создания сладкой мечты о Дульцинее, для Мопассана была только Альдонсою, единственною подлинною реальностью мира. И какая же ему еще Дульцинея? Пред ним стояла всегда жизнь подлинная, обычно представляемая, всегдашняя, наша «бабища румяная и дебелая». И ее румяный, близкий нам всем лик отразился в милых зеркалах мопассановских рассказов.
Но принять мир искренно и до конца, как принял его Мопассан, с полным забвением вечной мечты о мире, творимом творческою волею человека, о светлом тереме Дульцинеи, – принять мир Альдонсы, наш мир, – дело страшное и роковое. Отвергнуты утешительные иллюзии, маска за маскою сбрасываются, – и явлен наконец двойной, противоречивый лик Чудовища. Принять мир – значит вскрыть его извечные антиномии.
И в страшном сочетании предстают Жизнь и Смерть, ясный, точный Разум и слепое Безумие.
Так веянием и близостью смерти чаруют блистательные страницы мопассановской прозы. Смеемся, забавляемся, но «кто жил и чувствовал», не может не почувствовать тайного яда, разлитого в этих страницах.
Не потому ли мы, как и народы Запада, любим Мопассана?
Вместо предисловия*
Ты скажешь ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Ф. ТютчевОдно из сладчайших утешений жизни – поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и, когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.
«Люблю грозу в начале мая!»
Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, – что мне до этого! Стихи могут быть лучше или хуже, но самое значительное то, чтобы они мне понравились.
Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. Он хочет, он дерзает не потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой. Засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как «весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». О резвая! О милая!
Февраль 1913 г.
Предисловие*
Ни в чем так полно, радостно и светло не выражается душа человека, как в отношениях любви. Когда к человеку приходит любовь, могущественная сила, движущая мирами и сердцами, низводящая небо на землю и землю преображающая в сладостный Эдем, то в душе человека умирает все случайное и раскрываются лучшие ее стороны. Как цветение по весне, как звонкий и страстный голос и красивое оперение у птиц, так и в человеке, в его телесном и душевном облике, возникают очаровательные признаки, прельщающие не потому только, что они сами по себе прекрасны, но и потому, что в них наиболее ярко выраженные индивидуальные черты наиболее ясно соприкасаются с началом бесконечного, с тем неутолимым стремлением к идеальному и недостижимому, которое заложено в каждой живой душе.