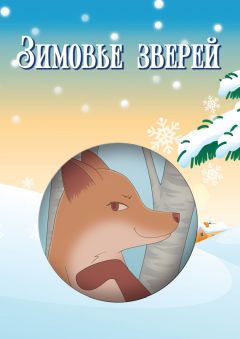Владимир Гиляровский - Том 3. Москва газетная. Друзья и встречи
— Вот и вы приехали! — покровительственно треплет меня по плечу. — Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке?
— А вы тоже артист? — спрашиваю.
— Как же! Мы с девицами приехали. Целый вагон привез, и в заведения и на «Самокаты».
«Самокаты» я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний.
Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Н. М. Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны.
Весной 1874 года, после того как я вырвался с белильного Сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы я очутился на палубе самолетского парохода, бежавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку.
О пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда — «бежит». Никто из пассажиров-волгарей не скажет: «Я плыл, я ехал…» — Нет! Обязательно скажут так:
— Туда мы побежали на «Самолете», а оттуда я прибежал на «Дружине».
И действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плицами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что он именно бежит…
Итак, я побежал на изящном розовом пароходике общества «Самолет», с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные медные трубы. Это означало, что пароход почтовый.
А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижансов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу неистово дудели: «Берегись, мол, почта идет!»
Не едет. Нет, а идет… Почта пришла… Почта отходит в семь утра…
Вот и побежал я на «Самолете», запасшись краюхой ситного, воблой, выправив билет третьего класса.
Тогда билеты не покупали, а «выправляли».
Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходит к кассе на пристани, платит деньги, получает билет и только: Может быть, это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов? Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить».
Сижу я на корме на круге якорного каната. Любуюсь красавцем-городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени. Творицами за Волгой… Вон там те же самые скаты бревен, где я три года назад, придя пешком из Вологды, увидал бурлаков Малафеевской расшивы, груженной хлебом. Тут меня и наняли на путину до Рыбны, и пошли мы в этот кабак за водкой, а потом на базар за лаптями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стояла расшива.
Ночевали мы на сыром песке, а на заре я в новых лаптях впрягся в лямку и зашатал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера уже под самым Ярославлем упал в лямке и тут же умер, на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках.
Чуть не четверть ватаги за путину переумирало. Холерища семьдесят первого года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ.
Посмотрел я на наш завод на высоком берегу: грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его «бурлацкое кладбище», потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали.
— Чу! Труба и колокольчики…
Над нами по набережной пролетела куда-то пожарная команда… Я узнал высокого старика брандмейстера.
О, сколько пережито за три года! И атаман Репка и Костыга, как живые, перед глазами. И порка розгами солдата Орлова… И кулачные бои… А в ушах звенит голос нашего запевалы бурлацкого, его песня о пуделе, которой я после никогда не слыхал:
Белый пудель шаговит, шаговит…
Черный пудель шаговит, шаговит…
Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры… «Рвань коричневая», то слезливая, забитая, то «удалы добры молодцы» — непокорные, которым удержу нет.
Зимогоры — верхневолжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе.
И я — недавний зимогор, вырвавшийся на волю… Да еще с билетом на почтовом пароходе «Удалой», тогда одном из самых резвых на верхнем плесе.
Второй свисток прогудел над головой и выбросил в воздух один за другим два снежных облачка пара, Сквозным серебром забелели они на голубом небе, расплылись прозрачным кружевом и бесследно растаяли…
А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовался к своей такой же сероватой пристани, с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал надпись «Велизарий».
— Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет, — громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской, с белым верхом, фуражке.
— Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, — ответил кто-то невидимо для меня.
И тут же три свистка и три облачка белого пара заклубились на лазури и медленно растаяли над нами, когда «Удалой», повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлившей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз.
И «Велизарий» выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука.
Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над «чумовым Тихомировым». Ехавшие на «Удалом» из Рыбинска удивлялись задержке там «Велизария», который должен был бы по расписанию выйти через десять минут после нас.
Кругом шли разговоры о Тихомирове. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет «капитанить» и устраивать бешеную гонку с «Самолетом». И так всю навигацию — кроме месяца нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан, старик из лоцманов, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке вплоть до закрытия ее безвыходно кутит по всем притонам, до «Самокатов» включительно.
Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе…
Еще рано утром я бросил мою рвань на базаре и переоделся во все новое: синяя рубаха в полоску, короткая суконная поддевка, сапоги гармоникой и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой, и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк — всеми любимая тема для разговоров, которой я и пользовался в случае нужды.
Так я решил поступать и впредь. Переодевшись в лавчонке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку».
Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне идти на Волгу и промыть волосы.
Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла.
Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик, на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода и что еще сегодня утром был зимогор.
Быстро бежал «Удалой». Сзади чуть-чуть послышались три свистка: «Велизарий» отваливал. Едва ли скоро догонит.
Увидав, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты.
Выползли из душного кубрика два матроса и, сев рядом со мной, принялись колотить воблу о перила.
— Собачий барин остановки требует! — указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины.
Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами.
— Это Собачий барин? — спросил я.
— Он самый.
И вспомнились рассказы старых бурлаков Костыги и Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, когда бывалый бурлак Суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказками, не раз упоминал Собачьего барина.
— На этом самом месте, — говорил он, — с испокон века бурлацкая перемена, а потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу, она и сейчас цела пониже Ярославля — белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве, дворня огромная, собак уйма: охотиться гости из Питера прибывали — все важные баре. Не понравилось барину, что его бурлаки беспокоят тем, что ночуют на берегу, что кашу варят, песни поют и барынь своим видом пугают. И начал он наши ватаги собаками травить на ходу, а ежели на перемену остановятся, то ночью на нас, на сонных, налетали охотники верховые и арапниками пороли. Так года два зверовал барин да на Репку и наткнулся. А Репкина ватага — так бурлачков полсотни — всегда богатырь к богатырю была подобрана. Затеял барин потеху, сам с пьяными гостями высыпал, напустил на бурлачков своих охотников, а Репка ждал. Ну и отчихвостили наши ребята господишек и их холуев по-бурлацки. На Репку наскочил сам барин с арапником. Схватились они врукопашную, на чертолом облапились, — картинно рассказывал Суслик эту бывальщину и заканчивал: — Барин помер. Стройка дворовая сгорела, только дом остался, бурлаки перевелись, а место и по сю пору зовут Собачий барин.