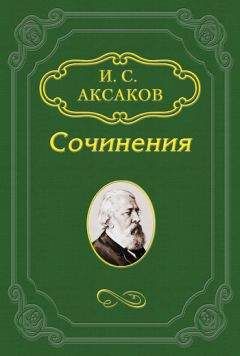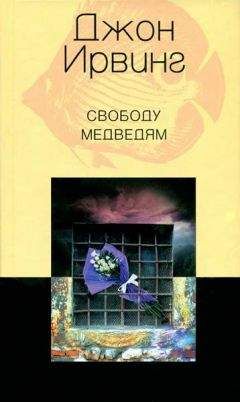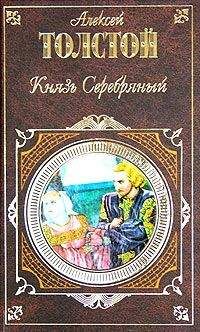Максим Горький - Том 8. Жизнь ненужного человека. Исповедь. Лето
— Тяжело вам с матерью? — спрашиваю. Он сидел у меня в тот час, пришёл благодарить за помощь, чудак.
У него брови прыгают, губы дрожат.
— Легко ли! — говорит он, словно задыхаясь. — Горько и стыдно — чем поможешь? Болен человек, лишён ума. Судите сами, каково это видеть, когда родимая твоя под окном милостыню клянчит, а то, пьяная, в грязи лежит середь улицы, как свинья. Иной раз думаешь — умерла бы скорей, замёрзла бы или разбилась насмерть, чем так-то, на позор людям жить! Бывает тоже, что совсем лишаюсь терпенья, тогда уж бегу прочь от неё — боязно, что пришибу или задушу всердцах.
Сидит, согнулся, охватил голову ладонями, и кажется, что курчавые волосы его дыбом встали. И вдруг, помолчав минуту, он исподлобья смотрит на меня, ласково усмехаясь.
— А вспомню, — новым голосом тихо и благодарно говорит он, — каково ей было со мной — и уж не знаю, что сделать для неё, сам за водкой бегу — на, пей, отдыхай! Отец у меня зверь был, старшего брата в могилу побоями свёл, сестра сбежала в город и пропала там без вести, может, в гулящие пошла… Она, мать-то, всегда вступалась за меня, оттого, может, и жив я остался… зато отец бил её так, что даже вспомнить жутко! И, бывало, приползёт она ко мне, избитая, в крови вся, а сама спрашивает, едва шевеля языком: «Что, Авдеюшка, больно он тебя?» Можно ли это забыть!
Голос его звучит глухо, как у больного, и слышу, что в горле у парня слёзы кипят.
Странно и неловко видеть богатыря такого плачущим, однако — я эти слёзы понимаю: и у меня отец не ласков был, и мою мать колотил он не жалеючи, а ей, милой старушке, я обязан тем, что захотел правду искать и нашёл.
— Больно ей, стонет она, — тихо рассказывает Авдей, — а сама меня учит: «Ты-де не сердись на него, он сам-то добрый, да люди злы, жизнь-то тяжела ему, очень уж жизнь наша окаянная!» И плачем, бывало, оба. Знаете, она мне и по сю пору сказки рассказывает, коли ещё в памяти и на ногах держится. Подойдёт ко мне, сядет и бормочет про Иванушку-дурачка, про то, как Исус Христос с Николаем и Юрием по земле ходили…
Он тихо и конфузливо засмеялся.
— Смешно мне, конечно, а слушаю, ничего!
Никогда потом не видал я его таким хорошим, как в этот удачный час.
Астахов, конечно, разъярился, забегал по начальству, начал искать чадо своё, но, пошумев недели с две, предал дочь анафеме и бросил поиски. Да и Авдея перестал донимать, потому что однажды на сходе мирском тот сказал ему:
— Эй, Кузьма, ты меня больше не трогай, слышал?
Старик закричал, миру:
— Глядите, будьте свидетели мне, грозится он! Спросите-ка его, чем он грозится, а?
Мир молчит, смотрит, ждёт — кто окажется сильнее.
— Я одно говорю тебе, Кузьма, — повторил Никин, — ты меня не тронь!
Видел я это: стоит он на аршин выше старика ростом, стоит прямо, голова без шапки, брови сдвинуты, лицо открытое, спокойное. А спокойствие сила; топор спокоен, а рубит дуб под корень.
Обрадовался я, что прошла эта история быстро, — мешала она, отводя от дела в сторону.
Когда воротился из-под ареста Досекин, был у меня с ним значительный разговор; зашёл он ко мне и, посидев немного, спрашивает:
— Правду Ваня мне сказал, что Алексей с Никиным пошли Настасью Астахову красть, а вы будто одобряете их?
— Одобрять не одобряю, а помочь пришлось, — говорю. — Тяжело Авдею-то.
Он, аккуратно свёртывая папиросу, заметил:
— На тяжёлом силу и пробуют.
Окутался сизыми дымами и молчит. Чувствую — что-то ему не нравится.
— Разве, — мол, — вам не жалко товарища?
Он прищурил глаза и, глядя на окурок папиросы своей, спокойно говорит:
— Жалко. Человек полезный. Только это — его дело, и нам оно ни к чему. Я так смотрю: или пни корчевать, или горох воровать — что-нибудь одно.
И снова усиленно задымил. Курит он какую-то ядовитейшую махорку, дым от неё столь жестокий, что комары и мухи, влетая в зеленоватые струи его, кувырком падают на землю. А он хвастается:
— Замечательный табак! Стекло разъесть может…
Помолчав, Егор спрашивает:
— А как вы, товарищ, думаете — вот теперь мы тут кое-что прочитали, привели мозги в движение — не начать ли нам полегоньку пробовать наши силы и пригодность к делу? Вы, конечно, оставайтесь в стороне, а нам бы, здешним, думаю, пора. Для поверки больше — сколько знаем, и что нужно знать, и какие вопросы будут ставить нам.
Подумав, я говорю:
— Соблюдая осторожность, пожалуй, можно.
Он отбросил окурок и просиял.
— Вот и хорошо! Дело, видите, в том, что всё ж таки мы здесь народ замеченный: одни на нас косятся, другие как бы ожидают чего-то. Тут есть такие задетые за сердце люди… Заметили вы — мимо вас старик один всё прихрамывает? Малышеву Ивану двоюродный дядя, начётчик, Пётр Васильевич Кузин — слышали? Он уже что-то понимает, как видать, и племянника выспрашивал про вас, и ко мне подъезжал не однажды. Человек внимательный.
Чувствую, что Досекин хочет что-то сказать и не решается. В словах у него явилось нечто вычурное и необычно для него церемонное.
— Считаете опасным его? — спрашиваю.
— Остерегусь сказать, — ответил Егор, пристально глядя на меня кремнёвыми глазами, — думается мне, что он к вам придёт. Я вам расскажу про него, что знаю, а вы, поговорив с ним, сами увидите, каков человек.
И рассказал: начётчик Кузин имеет славу человека, знающего писание, но дерзкого и неуживчивого. Всю жизнь кормился около богатых, на выборах в первую и вторую Думу тянул их руку и по сей день числится в чёрной сотне. Года полтора тому назад в губернском городе был арестован его зять, сидел в тюрьме, теперь осуждён и сослан на поселение. Кузин ездил хлопотать за него, но без успеха, а хлопоты эти были поставлены ему в вину; лесовладелец Скорняков, окружной богатей и воротила, отобрал у него за долги избу и пчельник. Кузьма Астахов говорит на деревне и по округе, что старик заразился, дескать, крамолой, и теперь старый этот человек бродит где день, где ночь, осторожно поругивая бывших своих дружков и заводя себе новых средь деревенской бедноты.
Рассказав мне эту историю, перечислив новые знакомства Кузина, Досекин, усмехаясь, намекнул:
— Кажется мне, что старик, будучи обижен, затевает что-то на свой страх.
— А что?
— Да так… вообще, бубнит, бормочет, — неопределённо сказал Егор и, вспомнив какое-то дело, поспешно ушёл, а я остался размышлять — зачем всё это рассказал мне и чего желает мой тёзка?
В Гнездах всего тридцать два двора, я прожил здесь уже два месяца с лишком, знаю всех хозяев, все истории, связи, степени родства, знаю и перечисленных Досекиным друзей старого начётчика.
Нил Митрич Милов — зовётся в деревне Мил Милычем за свой тихий нрав. Мужичок маленький, задумчивый, даже и в красной рубахе он серый, как зола, ходит сторонкой, держится вдали от людей, и линючие его глаза смотрят грустно, устало. И жена у него такая же, как он, — молчаливая, скромная; две дочери у них, семи и девяти лет. Перед пасхой у Милова за недоимки корову свели со двора.
Савелий Кузнецов — человек изувеченный, едва ходит: работал прошлой весной в городе на пивном заводе, и там ему пьяный казак плетью рёбра перебил. Встречался я с ним часто — он любит на бугре у мельниц лежать, греясь на солнышке. Мужчина мне неизвестный: он не столько говорит, сколько кашляет.
Затем идёт Михайло Гнедой — до войны был мужик зажиточный, но за время войны и плена старший брат его Яков попал в беспорядки — жгли усадьбу князя Касаткина — был поранен и скончался в тюрьме. Жена его тотчас вышла замуж за Корнея Мозжухина. Корней прибрал к рукам долю Михаила, а жену его выжил из дому, ушла она в город и пропала там. Возвратясь из плена, Гнедой оглянулся вокруг и начал пить, пропил всё, что мог, да к тому же Мозжухину и нанялся в батраки. Каждый праздник ходит по улице пьяный, ругает своего хозяина и всех богачей, а они на него жалобы подают, и то волостной, то земский начальник сажают солдата в холодную.
«Что ищет и находит старый Кузин у этих порушенных жизнью людей?» думаю я, сидя под окном.
Душно. Висят над деревней тучные облака, пробегает вдоль улицы суетливый ветер, взмётывая пыль, где-то над лесами гулко гудит гром, и чёрная ночь лениво вздрагивает в синих отблесках далёких молний. Слышу мерный и тяжкий топот коня — это едет по деревне стражник Семён, отставной гренадёр; деревня боится его, считая полоумным. Человек ночной, угрюмый, крупный, ои сух лицом, чёрен, не улыбнётся, не мигнёт — точно идол чувашский, резанный из дерева. Ночи напролёт шагает по деревне и вокруг неё тяжёлый серый конь, а стражник, чернобородый и прямой, качается в седле с винтовкой на коленях, тёмными глазами смотрит вперёд и поверх головы старого коня, как бы выслеживая кого-то вдали.
Властью своею над людями он почти не кичится, мужиков не задевает, и днём его не видно — спит. Только когда подерутся мужики и жёны их позовут его — выйдет, тяжёлый, сонный, остановится около драчунов, долго смотрит на них туманными глазами и, если они упадут на землю, молча пинает их толстою ногой в тяжёлом сапоге.