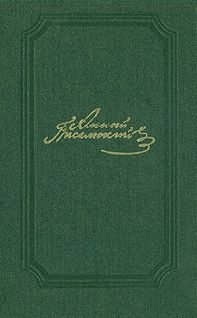Алексей Писемский - В водовороте
– Нет, он никак в этом случае не подчинится моим убеждениям! – возразила Елена.
– Но кроме ж того, – продолжал Жуквич тем же упрашивающим и как бы искренно участвующим тоном, – вы не знаете ж сами еще, разлюбили ли вы князя или нет.
Елена при этом слегка покраснела.
– Положим, я этого не знаю, – начала она, – но во всяком случае в каждом, вероятно, человеке существуют по два, по три и даже по нескольку чувств, из которых какое-нибудь одно всегда бывает преобладающим, а такое чувство во мне, в настоящее время, никак не любовь к князю.
– Но к кому ж? – спросил ее Жуквич, устремляя на нее пристальный взгляд.
Елена опять при этом несколько смутилась.
– То есть к чему же, вы должны были бы спросить меня… – подхватила она. – И это я вам сейчас объясню: я, еще бывши маленьким ребенком, чувствовала, что этот порядок вещей, который шел около меня, невозможен, возмутителен! Всюду – ложь, обман, господство каких-то почти диких преданий!.. Торжество всюду глупости, бездарности!.. Школа все это во мне еще больше поддержала; тут я узнала, между прочим, разные социалистические надежды и чаяния и, конечно, всей душой устремилась к ним, как к единственному просвету; но когда вышла из школы, я в жизни намека даже не стала замечать к осуществлению чего-нибудь подобного; старый порядок, я видела, стоит очень прочно и очень твердо, а бойцы, бравшиеся разбивать его, были такие слабые, малочисленные, так что я начинала приходить в отчаяние. Это постоянное пребывание в очень неясном, но все-таки чего-то ожидающем состоянии мне сделалось, наконец, невыносимо: я почти готова была думать, что разные хорошие мысли и идеи – сами по себе, а жизнь человеческая – сама по себе, в которой только пошлость и гадость могут реализироваться; но встреча с вами, – вот видите, как я откровенна, – согнала этот туман с моих желаний и стремлений!.. Я воочию увидала мой идеал, к которому должна была идти, – словом, я поняла, что я – полька, и что прежде, чем хлопотать мне об устройстве всего человечества, я должна отдать себя на службу моей несчастной родине.
На лице Жуквича заметно отразилось при этом удовольствие.
– Вот эта ж самая служба родине, – заговорил он немножко нараспев и вкрадчивым голосом, – я думаю, и нуждалась бы, чтобы вы не расходились с князем: он – человек богатый ж и влиятельный, и добрый! Мы ж поляки, по нашему несчастному политическому положению, не должны ничем пренебрегать, и нам извинительны все средства, даже обман, кокетство и лукавство женщин…
– Совершенно согласна, что средства все эти позволительны, – подхватила Елена, – но в некоторых случаях они для женщины возможны, а в других – выше сил ее… Вы, как мужчина, может быть, не совсем поймете меня: если б я князя не знала прежде и для блага поляков нужно было бы сделаться его любовницей, я ни минуты бы не задумалась; но я любила этого человека, я некогда к ногам его кинула всю мою будущность, я думала всю жизнь мою пройти с ним рука об руку, и он за все это осмеливается в присутствии моем проклинать себя за то, что расстроил свою семейную жизнь, разрушил счастие преданнейшей ему женщины, то есть полуидиотки его супруги!.. Наконец, когда я сказала ему, что, положим, по его личным чувствам, ему тяжело оказать помощь полякам, но все-таки он должен переломить себя и сделать это чисто из любви ко мне, – так он засмеялся мне в лицо.
Под влиянием гнева, Елена даже несправедливо передавала происходившее у ней объяснение с князем.
Жуквич на все эти слова ее молчал.
– И что мне жить еще после этого с ним?.. – продолжала Елена, – тогда как он теперь, вероятно, тяготится и тем, что мне дает кусок хлеба, потому что я тоже полька!.. Да сохранит меня небо от того!.. Я скорее пойду в огородницы и коровницы, чем останусь у него!
– А мне ж кажется, что князь любит вас и любит даже очень! – возразил ей Жуквич.
– Да, чувственно, это может быть, но я хотела и надеялась, что он меня будет любить иначе, а уж если необходимо продавать себя этим негодяям-мужчинам, так можно найти повыгодней и потороватей князя… Вон я сейчас нашла двух покровителей, батюшку и сынка, – обоих обобрать можно, если угодно… – проговорила Елена с каким-то озлобленным цинизмом. – Словом, о князе говорить нечего, – это дело решенное, что мы с ним друг для друга больше не существуем! Будемте лучше с вами думать, что нам предпринять для наших соотчичей.
Жуквич на это развел молча руками.
– Прежде всего, – продолжала Елена, как бы придумав кое-что, – я одного из моих новых покровителей, юного Оглоблина, заставлю раздать билеты на лотерею, для которой соберу кой-какие из своих вещей, оберу у подруг моих разные безделушки; за все это, конечно, выручится очень маленькая сумма, но пока и то лучше пустого места…
Жуквич грустно усмехнулся.
– О, доброте ж вашей пределов нет! – произнес он, вскидывая на Елену сентиментальный взгляд.
– То-то, к несчастию, доброты одной мало! – подхватила со вздохом Елена. – А нужны силы и средства!
Затем они еще некоторое время побеседовали, и Жуквич успел при этом спросить Елену, что на какую сумму денег она сама будет жить на новом своем месте?
– На очень маленькую-с!.. На очень! – отвечала она.
Жуквич опять с грустным видом и участием покачал головой, а потом, когда Елена ушла от него, он долго оставался в задумчивом состоянии и, наконец, как бы не утерпев, произнес с досадой и насмешкой:
«О, то ж женщины!»
* * *Возвратясь домой, Елена велела своей горничной собираться и укладываться: ей сделался почти противен воздух в доме князя. Часам к восьми вечера все было уложено. Сборы Елены между тем обратили внимание толстого метрдотеля княжеского, старика очень неглупого, и длинновязого выездного лакея, малого тоже довольно смышленого, сидевших, по обыкновению, в огромной передней и игравших в шашки.
– Да что, барышня-то эта наша уезжает, видно, куда-нибудь? – спросил метрдотель.
– Уезжает!.. – отвечал лакей.
– В Петербург, к князю, что ли? – просовокупил метрдотель.
– Какое в Петербург!.. Машина разве ходит туда ночью? – возразил лакей.
– Гм!.. – произнес метрдотель и пододвинул шашку. – Спросить бы ее, паря, надо, куда это она едет: а то князь приедет, хватится ее, что мы ему скажем на то?
– Известно, хватится! – согласился лакей.
Метрдотель как бы размышлял некоторое время.
– Поди, спроси ее!.. Для отметки, мол, это нужно… показать, куда вы выбыли, – проговорил он.
– Да что мне-то спрашивать? Ты старший-то у нас в доме, – отозвался было сначала лакей.
– Экой, братец, какой ты глупый! – возразил ему метрдотель: – я старший по буфету, а ты настоящий-то дамский выездной лакей.
Лакей убедился этим доводом.
– Да мне что?.. Я пойду!.. – сказал он, а затем встал и проворно пошел в комнату к Елене.
– Вы уезжать изволите-с? – спросил он ее.
– Да! – отвечала ему лаконически Елена.
– Вы не прикажете телеграфировать об этом князю? – допрашивал ее лакей.
Елена немного испугалась этого.
– Нет, я сама ему писала; я на короткое время к матери переезжаю! – присовокупила она, чтоб отвязаться от дальнейших расспросов.
– К маменьке изволите ехать? – повторил лакей с явным недоверием в голосе.
– Да; а как князь возвратится, я опять перееду сюда! – говорила Елена, чтобы только успокоить его.
Лакей не нашелся более, о чем ее расспрашивать, и возвратился к метрдотелю.
– К матери, говорит, уезжает на время, – объяснил он тому, усаживаясь опять за шашки.
– Что ей так вдруг захотелось туда!.. – произнес, усмехнувшись, метрдотель.
– Прах ее знает! – отвечал лакей, тоже усмехаясь.
Вскоре после того два дворника и два поваренка, предводительствуемые горничною Елены, стали проносить мимо них сундуки и чемоданы и все это укладывать на приведенного к подъезду извозчика.
– Куда это, тетенька, путь ваш держите? – пошутил метрдотель горничной.
– Куда нужно-с! – отвечала та ему: Елена запретила ей говорить княжеской прислуге, куда они переезжают.
Невдолге после горничной на лестнице показалась и Елена, а за нею шла нянька с ребенком.
– Не прикажете ли карету для вас заложить?.. Так же стоят лошади, ничего не делают! – отнесся к ней выездной лакей.
– Нет, не надо!.. Я на извозчике доеду, – сказала Елена. – А ты вот что лучше: побереги мое письмо к князю, которое я оставила в кабинете на столе.
– Сохранно будет-с! – отвечал ей лакей.
Елена свою новую квартиру в казенном доме нашла выметенною и вымытою; но при всем том она оказалась очень неприглядною: в ней было всего только две комнаты и небольшая кухня; потолок заменялся сводом; в окнах виднелись железные решетки, так что нянька и горничная, попривыкшие к роскоши в княжеском доме, почти в один голос воскликнули:
– Ах, батюшки, словно тюрьма какая!..
Но Елену, кажется, нисколько не смутила бедность ее нового помещения. Обойдя все кругом и попробовав рукой жесткую кожаную мебель, она спокойно села на диван и проговорила: