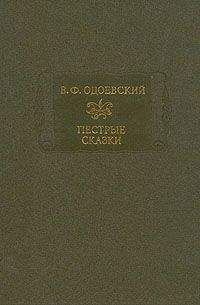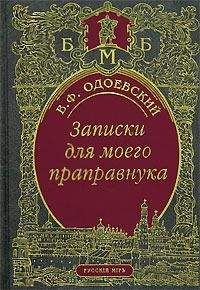Владимир Одоевский - Повести и рассказы
— Княжна! — сказал я ей, — мне необходимо сказать вам несколько слов.
В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:
— Говорите, я вас слушаю.
Мы вышли на паперть; она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною… Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.
— Княжна! — сказал я твердым голосом, — вы несчастливы!
В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.
— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета?!
— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед Богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.
Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину…
Вдруг она взяла меня за руку:
— Скажите, вы меня не обманываете?..
— Княжна!..
— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?
— Я был бы счастливейшим человеком.
— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем… Чрез несколько часов я пришлю к вам в дом записку…
Я хотел поцеловать ее руку, но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: „Я согласна отдать вам мою руку и ввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы: не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести… Когда-нибудь вы все узнаете“.
Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.
Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастием. Пишу к вам ночью: душевное волнение мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»
На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:
«Все кончено; участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды. „Простите меня, не проклинайте меня, сочтите меня безумною, если хотите… Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!“
Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моей жизнию, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта… Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого проницательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и после долгого напряжения я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».
Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:
«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое борение с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, — и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я… нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя и жертву, прослыть ветреною, безумною… Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата перед Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть, — это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне препятствует выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — его, ангела доброты, бескорыстия… Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь иначе других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд manque[84] почитает его способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показалась себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удается, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного… несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»
В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.
Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.
С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов; он часто заводил речь о семейственном счастии, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, — для Лидии они были непонятны. Как ни ограниченны были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал и какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устраивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетушек, бабушек — словом, на все приглашающие лица, — и благодаря этой тактике выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это, — говорил он, — Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило проницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь, и очень тонко, над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмотворца; книги Сильвио Пеллико нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнию»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду; весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжною сильно поразил Владимира Лукьяновича. На его лице не было приметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось — и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: непозволенная страсть, нарушение долга; она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав няньку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках… Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкап с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватает ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия, — но тщетно: вся жизнь ее развертывается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые нежданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом: