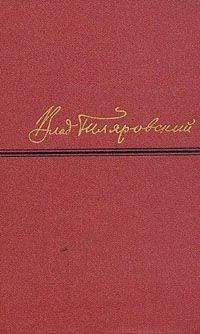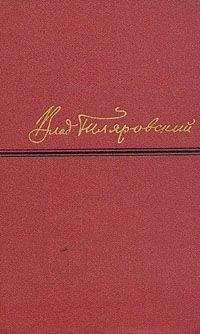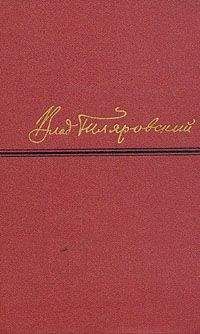Владимир Гиляровский - Сочинения в четырех томах. Том 3
— Как же-с, Лев Сергеевич заплатил мне за три бутылки и велел оставить их на текущем счету.
— Да… да… триста рублей, кажется, вы с него взяли.
— Помилуйте, Иван Иваныч, разве это много? Ведь я сам купил из погреба наследников дюжину за восемьсот рублей, насилу выпросил. Две бутылки остались только. Берегу как зеницу ока.
— Тащи их сюда. Чего там говорить!
— Одну-с, Иван Иваныч, дам, одну уж позвольте оставить.
— Тащи обе… Одну с собой возьму — мне можно только сухое вино.
— Слушаю-с… А свой салат к индейке вы сами, конечно, приготовите, Иван Иваныч?
— Просим, просим! — в один голос зашумела вся компания богача Сумского, сахарозаводчика, большого гурмана и гурмана-мученика вместе с тем: он страдал сахарной болезнью, но иногда рисковал кутнуть и всегда уже в таких случаях приглашал Ивана Иваныча — тот знал, что ему можно и чего нельзя.
Так жил и блаженствовал десятки лет этот купеческий арбитер элегантиарум[22] купеческих кутил.
Я помню его с 1876 года. Он бывал в Артистическом кружке с Сережей Губониным и тогда еще имел торговлю в городских рядах, где над магазином шелковых изделий красовалась вывеска: «Рошфор и Емельянов». Рошфор был француз, Емельянов — коренной москвич, отец Ивана Иваныча. Последний, еще двадцатилетним малым, сперва ходил в картузе и поддевке, по-купечески, раза три со стариком Рошфором ездил в Париж за «модьем», но после третьей поездки, продолжавшейся около двух месяцев, так как Рошфор там с месяц прохворал и месяц отдыхал после болезни, вместо «Ванятки» в картузе бородатым, в долгополом сюртуке родитель увидал своего единственного сына франтом, одетым по последней моде и причесанным а-ля Капуль, в желтых перчатках и цилиндре. А когда отец по обыкновению повел его завтракать в «Дыру» под Бубновским трактиром, то сынок предложил отправиться наверх в парадные бубновские залы и, там призвав хозяина, стал ему заказывать такие блюда, что тот глаза вытаращил, а отец рассердился, сказал ему: «Лопай сам» и ушел в «Дыру» хлебать солянку из осетрины и есть битки в сметане.
С тех пор Иван Иваныч уже не снимал с себя цилиндра, а когда я поселился в Москве, в 88-м году, то у него уже не было никакой торговли. После смерти отца Рошфор выставил его из своей фирмы, но он не унывал и стал появляться у «Яра» в компании своих друзей — купцов, которых раньше он угощал и которые теперь угощали его, преклоняясь перед его уменьем устраивать пиры.
И вот этот самый Иван Иваныч сейчас быстро обернулся и, перехватив палку в левую руку, заторопился снять перчатку с правой и веселым взглядом приветствовал меня.
Чисто выбритый, ухоженные усы, те же огромные, шелковистые, без единой сединки, цилиндр слегка набекрень, как и прежде, и неизменный, так недавно еще модный сюртук, залоснившийся и вытертый, но без пылинки, сидевший теперь на нем, как на вешалке. От чичиковской округлости брюшка и следов не осталось, и не было полноты румяного лица, слегка побледневшего, но еще свежего. Это был на вид так мужчина лет сорока пяти — пятидесяти.
— Гуляете, — относя в сторону во всю длину руки цилиндр, улыбнулся он.
— Да, засиделся в городе, за три года первый раз решил в парк пройти.
— И прямо сюда пришли? Знать… Невольно к этим грустным берегам… и вас влечет неведомая сила? — докончил он. — А я здесь каждый день гуляю… Да идти-то мне… помните, как у Достоевского Мармеладов говорит: идти некуда. А сам пошел в пивную… А теперь и пивных нет… Вот мне так идти действительно некуда. Тетка у меня на Якиманке была, распроединственная моя родственница — да и та пропала без вести… Женат я не был, старые друзья по пьяному делу смыты, «кого уж нет, а те далече». Спасибо, еще управляющий домом, где я тридцать лет живу, там, на Башиловке, дал мне комнатушку, заваленную книгами… Живу в ней и перечитал всех классиков, о которых прежде и понятия не имел. Знал, что есть Пушкин, потому у «Яра» в Пушкинском кабинете его бюст стоял. Вот встану, попью вместо чаю кипяточку с черным сухариком, почищу цилиндр, их у меня три осталось, вычищу сюртук, побреюсь — каждый день для поднятия духа бреюсь, — а потом сюда гулять…
Я слушал и не знал, что сказать.
— Пережил всю революцию, пожаром трибун всю ночь любовался…
— А отчего они сгорели?
— Кто знает? И спросить некого… Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а не одного седого волоса, никаких катаров не мог напить… И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.
Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.
— Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»… все… все… А без них и я кончаюсь… Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.
— Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иваныч? Ну-ка, понюхай!
Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:
— Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.
Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.
— Да разве так можно? Что вы!
Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:
— Руки у меня чистые. Он взял у меня нож и сыр.
— Грех такое добро портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж…
И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.
— Такой сыр не режут, а гофрируют.
Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.
— У-ух! Вот отвел душу. Жаль что хлеба нет.
Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.
Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.
— Зачем вы его так нарезали?
— Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.
— Кто?
— Фогабал. Вы помните его?
— Еще бы! Ильенковская лошадь.
— Да не лошадь, а гимназист — Фогабал. Да, я помню и гимназиста Фогабала.
Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».
«Перепутье» — это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.
Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.
— Милый Фогабалушка, отметь афишечку.
Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.
Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.
Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое — дворянское и беговое — купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.
В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.
Двойного тотализатора еще не было.
Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.
«Банк, а не лошадь», — говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.
Десять процентов в три минуты, и вход и извозчик оплачены.
Лопнул банк!
Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер — спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями — англичанами. На Перкуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз — это окончательно обеспечивало победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публика играла наверняка: лучше гривенник нажить, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.