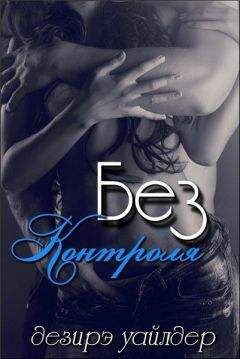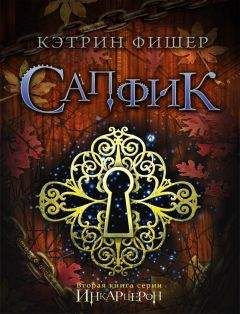Анатолий Гребнев - Записки последнего сценариста
Если уж смотреть, в чем ошиблись, то ошибка была у нас та же, что и у авторов замечательного нашего закона о печати. Кто-то здорово сказал, что этот закон составлялся диссидентами для диссидентов, тогдашних, разумеется. А воспользовались им, как всегда, другие люди. Вот они, эти мерзкие газетки на каждом углу, выходящие ныне вполне легально. И вот они, фильмы-поделки, хлынувшие на экраны по полному праву, нами же завоеванному для Германа и Панфилова.
Но я, наверно, слишком удалился от своего рассказа, да и рассуждения на общие темы лучше бы оставить просвещенным людям, теоретикам. Мне же больше с руки описать то, что видел и чувствовал.
И вот чем, стало быть, запомнился мне навсегда Пятый съезд.
15 мая, третий день. Кремль. Долгие часы ожидания. Сначала ждем, пока напечатают бюллетени. Говорят, они были готовы заранее, теперь, после наших баталий, их надо печатать заново; ждем. Наконец голосование. Потом еще три часа, если не больше, пока подсчитают голоса и объявят результаты. Сами же там все так почеркали, места живого не оставили, теперь вот счетной комиссии работы на часы. Ждем.
Съедены все сосиски в кремлевских буфетах (коротенькие такие, и вкус сосисок, нигде в другом месте их нет). Вышли во двор подышать. Мягкий майский вечер, поздние сумерки. У крыльца толпится народ. Женщины в вечерних платьях. Это гости. Пришли на заключительный прием, он должен был начаться в полвосьмого, сейчас уже десятый час. Подъехала машина, солдат из охраны с птицей в руках. Это сокол, его выпускают разгонять здесь воронье, и вот оно тучей взмывает в воздух. Никогда такого не видел.
Непередаваемое чувство. Одни и те же лица, никто не расходится. Чего мы все ждем? Что должно случиться? Неужели вот так и ощущаешь историю - не ту, о которой потом читаешь в книжках, а ту, что совершается вот сейчас на твоих глазах? Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые? Вот это оно?
Покойный Виктор Демин приравнивал эти три дня к десятилетиям. Он писал, что они были лучшими в его жизни. Я его понимаю. Для меня по крайней мере они сопоставимы по ощущениям с днями марта 53-го, февраля 56-го, августа 91-го.
Потом наступает отрезвление, но ведь это - потом! Меня всегда умиляли театральные критики: он смотрит спектакль - слезы на глазах, а потом, поразмыслив, пишет кислую рецензию. Но ведь это же твои слезы, твой смех, куда же это теперь денешь. Это ты ходил по кремлевскому дворику взад и вперед, томясь ожиданием, и у тебя, не у кого-нибудь, стучало сердце, когда вновь наполнился зал, и наступила пауза, и стали читать результаты, полные значения для посвященных. И ты торжествовал вместе со всеми, сознайся, это был ты.
Глава 19
ПРОЦЕСС - В КАВЫЧКАХ И БЕЗ
Привычная жизнь, работа - все на время отставлено; хорошо еще, что только на время. Многие из моих коллег по секретариату тоже забросили свое профессиональное дело, а кто-то так до конца и не пришел в себя; сейчас им даже ставят это в упрек: такой-то, к примеру, не снял за все годы ни одной картины, а тот ничего не написал. Но это, я полагаю, их личные проблемы, скорее всего непростые, и уж если кто пострадал от этого, то в первую очередь они сами.
Не знаю, кто как, а я не жалею о потерянном времени; время, я думаю, вообще никуда не теряется, оно - твоя жизнь. Сейчас, по крайней мере, вспоминаешь с улыбкой... да, в общем, есть что вспомнить. Ну, например, с каким остервенением добывал сколько-то тонн бумаги для киногазеты, которую затеяли издавать: бумаги не было, были "фонды", требовалось чуть ли не решение ЦК на каждую тонну и т. д. и т. п. И вдруг в один прекрасный день бумаги в стране оказалось хоть завались, откуда-то она взялась, а я ее все еще добывал; и так во всем: мы жили на грани абсурда и здравого смысла, существуя одновременно в реальном и иллюзорном мирах.
В том же 1986-м, после Пятого съезда, осенью, я ездил в Болгарию, затем в Польшу, оба раза с делегациями, но и с особыми поручениями, как эмиссар революционного союза и перестройки в целом - давал интервью, выступал, а в Варшаве даже вел переговоры с партийными функционерами о возможности приезда к нам Анджея Вайды, чью ретроспективу мы задумали устроить у себя в Москве.
В Польшу мы направились небольшой делегацией - с артистом Филиппенко и режиссером Лопушанским; нас возили по городам и весям по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, всюду были полные залы, красные флаги, Ленин - и тут же рядом где-то таилась другая Польша, "Солидарность", а нас еще возят, и с нами сонм сопровождающих, местные чиновники, и за стол всякий раз садимся вдесятером, и спутники наши искренне обижаются, когда мы, обожравшись, отказываемся от очередной трапезы, разумеется, дармовой, лишая тем самым и их...
Картинка эта довольно типичная: так ездят мои коллеги из года в год по братским странам, и сам я был таким же образом недавно еще в Югославии, а перед тем в Будапеште - вечная дружба с ее ритуалами все еще льется рекой к удовольствию всех.
В Варшаве, на праздничном приеме в нашем посольстве, знакомимся с Ярузельским, "генералом", как его тут называют уважительно, мило беседуем с ним о кинематографе. Европа!
Дело по поводу Вайды оказалось щекотливым: функционеры еще все на месте, к событиям в Москве, перестройке, нашему съезду в том числе, относятся с болезненным подозрением; сам Вайда, хоть и находится в настоящий момент в Польше, в Кракове, остается в немилости у властей. "Человек из мрамора", "Человек из железа" - под запретом. Чиновник в ЦК, по-европейски лощеный, но по-нашему непрошибаемый, объясняет мне, что положение пана Вайды будет зависеть в дальнейшем от его политической ориентации, то есть от него самого, понимай, как хочешь. О выездной визе туманно: скорее нет, чем да.
Кажется, ничто не предвещает перемен. Никаких знаков. Все, как было. Братские страны выжидают. В один прекрасный день они разом, все, как один, сбросят брезгливо эти опротивевшие одежды.
А пока - все, как было.
Из Варшавы уезжал с гриппом, приехал в Москву, как оказалось, с инфарктом. Пока отлеживался, было время опомниться: пора за работу.
Итак, все-таки - о судебном процессе. Сценарий "Процесс", так я его и назвал. Написать так, как еще не писали до тебя о нашем судопроизводстве. Как и сам не решился бы еще года два назад. И не потому что было "нельзя" в смысле "не пройдет". Но существовало "нельзя" и другого рода. "Нельзя" как нереализованное "можно". Не приходило в голову, всего лишь. Не возникало замысла. А вот сейчас возник.
Тут надо по справедливости оказать, что был это не такой уж легкий хлеб даже и теперь, когда, казалось бы, можно все. Можно-то можно, но как? Мощный вал разоблачений уже захлестывал страну, объединив, кажется, весь народ, как объединяет война. Взятки, взяточники, коррупционеры сверху донизу - источник всех бедствий, всех трудностей, вот оно где зло и вот кому - никакой пощады. В "Огоньке" с миллионными тиражами раскручивается узбекское "хлопковое дело". Застрелился Щелоков, арестован Чурбанов; вот-вот грядут новые громкие разоблачения...
К "ростовскому делу" добавилось к тому времени "московское", также наделавшее шуму. Не застав уже самого процесса, я отправился в Верховный суд, получил в пользование гору сшитых папок и засел за чтение. Строго говоря, мне хватило бы для моего замысла и того, что я уже знаю, и тех живых голосов, что остались на пленках диктофона, спрятанного под газетой. Но какой-то зуд заставлял копать дальше, с дотошностью, которая отчасти даже пугала меня самого, как предвестие старости. Я, впрочем, и раньше считал нелишним ездить "на натуру", собирать "материал", пусть даже для внутренней уверенности, а не прямого использования. Но сейчас, просиживая день за днем в комнатушке, мне отведенной, с этими папками - томами "дела", которых оказалось что-то около сотни, я каждый, день говорил себе, что пора остановиться - и не мог.
Мало того, я отправился еще и в прокуратуру, в следственную часть, где любезные хозяева предложили мне видеозаписи, относящиеся к процессу: допросы, очные ставки.
Это было знаменитое дело Трегубова, главного начальника московской торговли, человека, отмеченного дружбой самого Гришина, с которым они, как оказалось, даже ездили вместе в отпуск. Гришин еще оставался московским вождем и членом Политбюро; вполне возможно, что таким образом под него и копали в чьих-то интересах. Вскоре он уже и полетел. Помню письмо его, уже снятого, где-то чуть ли не в журнале "Театр", что зря-де его упоминают в связи с запрещением каких-то спектаклей или фильмов - это, мол, никогда не входило в круг его обязанностей. Я тогда подумал: как же они следят за текущей прессой! А умер Гришин, как я где-то читал, в очереди в собесе.
С Трегубовым вместе судили директоров крупнейших московских магазинов - ГУМа, Новоарбатского и других. Вменялось им всем одно и то же взятки; схема та же самая, что и в Ростове, и картина та же: брали и давали все.
Здесь был, правда, иной размах, приличествующий столице - с именами известных людей, кутежами на дачах в Серебряном бору, подарками высоким чиновникам и так далее.