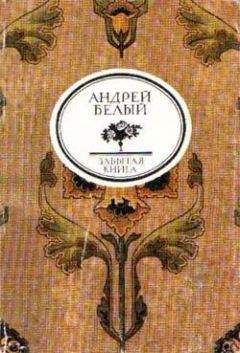Андрей Белый - Том 1. Серебряный голубь
И, очарованный, я подошел к окну, а в окне сияла розовая утренняя зорька, а над ней небо было бледно-зеленое, весеннее, с серебряной звездою…
[А] в соседней комнате пели:
Сияй же, указывай путь,
Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал,
И сердце уто-оне-ет в во-осто-о-о-орге
При виде… тебя…
Зоря разгоралась…
1902 года. Май
Куст
Эй, куда вы, Иван Иванович?
Но это был только Иванушка-дурачок. Прыгнул репейник под ветром перелетным; белый халат взлетел на нем пышно, ниспал униженно: и тогда между вознесенными в воздух краями халата, разведенными, как умоляющие приподнятые руки, улыбалось небо с пролетающим облачком; на одной ноге бегуна старая туфля хлопала сыростью. Обе ноги тонули в песке, как пламень красном; тут ветер учил прыгать вейные травы; ромашки метались, клонились колокольчиков лиловые кисти, горящий пурпур гвоздики рассыпался в его глазах, когда шаталась гвоздика пьяная. А над цветочным радением в неудержимом скоке ом проносился, бледнея и за сердце хватаясь, за усталое сердце свое.
Это он воскрешал в городах мертвецов музыкой сердца, выскакивали трупы под струю воздуха бурную. Не могли выдержать ток воздуха и опять мертвецы в свои гроба разбежались. Да и бросил города, да и удрал в поля, в поля.
Слова динамитом устал начинять, уста разрывные снаряды перестали выбрасывать. Говорил, взял да и замолчал! Замолчал, да и побежал! Прозрачные лепестки ветра ласково, пышно повеяли ему белыми розами — теперь, когда он бежал.
Иванушка думал.
Как, бывало, крали поклонники у него красноречие обокрали, как, бывало, враги набивали тайком всякой дрянью карманы его, чтобы всякую потом дрянь из карманов да и повытаскивать, людям на посмеяние.
Дурак думал.
Скакал через кочки и рытвины в колпаке да с ветром над головой переломленной палкой.
Думал.
Ах, да и взлезал же он в черном фраке — взлезал на трибуну; взлезал и кидал им цветы, оторванные от сердца, — цветы, которым нет названия: тогда на трибуну — теперь взлезал на земляной гроб цветочный.
Ай да Иванушка!
Тухлое яйцо однажды кракнуло об его лоб; он сошел с трибуны в перемазанном фраке. С тех пор в пиджаке ходил он с охапкою книг под мышкой. Тыкал пальцем в страницу, поднося книгу к толстому носу: «Ведь здесь же написано». Но рука толстого носа прихлопнула однажды его коленку, что-то под носом фыркнуло ему в ухо: «Черт вас возьми: проповедуете тишину среди нас, тихонь…» И потащилось оно в самую глубь сюртучных туш, плотно забитых между ручками кресел!
Ай да дурак!
Ученое его поприще площадною бранью окончилось попирал площадь втапоры, городовых бивал, распевая «Отречемся от старого мира».
И отрекли. И четыре стены миром ему стали новым, где по голубому пятну да ласковому, безотлучно смотревшему из окна, пробегали тучи, пролетали птицы, ночи и дни. Но когда распахнулась дверь. луч сердце ранил. С сердцем пронзенным, с пронзительным криком несся он вдоль пламенного песчаника. Давно уже проломленный, давно просыревший колпак, украденный воздушным током, далеко и глупо прыгал прочь от хозяина и безответственно закатился в яму.
Видел Иванушка куст, танцевавший в ветре с далекого пустыря. Чутко его листвяное шевелилось ухо да сухое, сухое лицо красноватое, корой — загаром — покрытое. То листвяная его крона безглагольною скорбью возвышалась над пространством красного песчаника с коричневой, точно из шеи выросшей прямо к небу, десницею: то уязвленный алчбою поклонов и тянулся, и ник он к полям с невольными вздохами, землю лобзая страстно; терзала, жадно царапала землю его на кочках лежащая шуйца, пока листва шипела сердитым шипом меж кожистых пальцев ее.
Вот тело бледное глухо рухнуло у куста в песок головою — рухнуло перед кустом оно зеленым, будто пред владыкою сих мест опустошенных, где камни, острыми ребрами своими мстительно врезаясь в землю, ее багрили пролиянным песчаником.
Куст возносился бок о бок с камнем. Это был одесную поставленный трон владыки. И когда упал пред владыкою, росшие ошую репейники дискантом да восхлипнули: «Не отверзи лица твоего…» Над обездоленным гордо куст вознес зеленую крону свою приобщать его пустынножительству, точно благолепно совершать да царственно обряд ветропомазания. Пролил елей ветра, пролил свою листвяную, пролил свою сладкую о заре песню. Оплеснул ветер, и репейники, будто рой песнопевцев юных, свистнули голосисто, испуганно: «Аллилуйя, слава Тебе!..»
Простыня золотой пыли, пламенно взвеянная, ниспала послушно на усталое тело дурака; потом тиховейно куст запеленал его черной своей тенью: исповедник, отпустив грехи, так накрывает мирной епитрахилью, и под ней обессилено кается чья-то душа. Потом взял куст кадило невидимое за ветра нити серебряные; листвяные руки его и воздевались, и опускались над окрестностью, и, звеня мелодично ветром, кадило дымило росною сыростью. И из сырости росной сам куст вырос пугалом дивным; пока издали проходили прохожие, все вздыхали, все крестились:
«Э, да какой там урод вырос!.. Э, да помолимся!»
Зацветало светом пространство. День наливался, как тяжелое зерно золотого колоса. Острым щебнем расчесывал беглец поутру опыленные волосы, холодный озирая пустырь. Все казалось ему теперь простым, безцарственным. Венчанный куст над оврагом сидел и низал прутьями носок из тумана. Но он бросил в овраг туманный носок, увидя, что гость проснулся. Добродушно болтал он с гостем. Куст не бегал с полей: из городов куст тоже не бегал: благонадежно возрос на пустыре, согретый зорькой. Над юной зарослью протянул ветку и хвастал: «Эти окрестности я один обсеменил. Здесь я хозяин».
Подцепил зеленой корягой ведерце. Неуклюже сбегал к ручью; принес серебра: «Обмойся, отдохни — живи у меня, но, когда придет заря, только не следи за нами».
Над валежником потер сучьями и просыпал искры: вырос красный петух, стал клевать валежник жадно.
День за днем, как пустырь, тек пролиянным хмелем свободы. Как запойный пьяница выпивал тишину — настой из ярких звезд, из ярких трав да из воздуха. Сердце его в тишины винный сосуд претворилось, а мысли претворились в жужжливых пчелок рой. Паки копили и множили они медоносные сердца соты. С песком да с репьем речь держал дурачок, и с уст его стекал на цветы мед душистый. С ним освоились птицы. Они дирали его волосы, ими наполняя свои гнезда. И хаживал вдоль огородов пригородных он морковь воровать да капусту; попади огородникам, зашвыряли бы его огородники, что пса твоего, каменьями.
Эх, не раз видывала его, да не раз — огородникова дочка-лебедь, по вечеру за водой с коромыслом проплывающая, — белая лебедь, дивная, прелестью ужасной, будто молоньей, оясненная. Из-под сарафана ножка с богородицыных слезок росы медвяные сотрясала. Капало ей на ножки миро цветочное. Белый, белый сарафан ее, заплатанный пурпуром, грудь теснил, прижимался; ее дышала грудь молодая жадно. Не смыкались уста ее красные, ее страстные, чуть оттененные пухом уста персиковым, вечно шепчущие в небо голубое, прозрачное, в небо звездное ведовские свои призывы да признания. Соболиные брови, заянтаревшяй лик, бледно-розовых яблонь румянец да звезды-очи каким бархатным, вкрадчивым, томным волновали душу, каким ласковым ожиданием — у, ароматом каким дыша — дурманило русалочных кос золото зеленое! А взоры? Уязвленному сердцу не вынести ее несказуемых, ее синих, ее, хотя бы и мимолетных, взоров из-под тяжелых, как свинец, темных ее ресниц, когда с улыбкой, ведающей соблазны, обжигала она вскользь, как миндаль, удлиненными очами. А если б резнула тот воздух острая, дикая ласточка, выжигая визгом душу — нет, вы упали бы на землю, к ее ногам, вы лобзали бы ее охлажденные росою ноги. Жаркие рыдания извлекла бы она из груди у вас, потому что и ее сгорало сердце от этих криков; и упала бы она на мягкую мураву, чтобы нежным прикосновением, как ветерок, легких рук своих изгладить из сердца томление смертное. Потом, улыбаясь себе самой, прочь пошла бы с коромыслом своим легким, вся в потоках бирюзы вечера нежного.
Вот же какая была у огородника дочка!..
Медленно растущий овраг, подобно раку, чьи клешни разъедали почву, подползал с годами к кусту. Куст был хозяин гостеприимный. Беломраморные яйца, какие сносили птицы на его ветвях, все дарил он дотошно постояльцу, только бы заставить его улечься в овраге на заре на вечерней. Не хотел гостю свои узы заревые показывать; также и гостя заре. Упрятав его в овраг, а как часто стоял у горизонта листвяной ворожей, вдоль широкого, да вдоль пустыря тень свою, тень черную вытягивал: преклонялся долам, травы сладкие лизал своей тенью. Но и Иванушке зари захотелось и вечерней, и утренней; еще науськал его овраг не послушаться владыки пустыря, потому что сам он, овраг, года уж под куст подрывался. Вот однажды в ребре овражном улегся Иванушка, причастный любопытству, сквозь репье да камень высмотреть куста униженное заре поклонение. А куст, богомольно замирая, водил по воздуху узловатой, из шеи брошенной в небо рукою, подолгу звал зарю, красу свою.