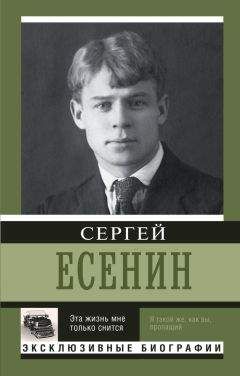Сергей Есенин - Последний Лель
— Прозывается, — отвечает сторож, привратник-совратник, — прозывается это место Чертухиным, Антютик в Чертухине ходит за старосту, правда божья у него в батраках, в услужении, стоит то место вон под той звездой, что на землю глядит, как зеленый глаз.
— Спаси те Христос, а заодно и нас!
Поклонились привратнику-совратнику правильные старцы до самой земли
И в путь потекли…
Шли так старцы долгие годы, шли так долгие месяцы, сизое облачко в небе растаяло, разнес ветер сизые перушки в разные стороны, упали они на дальнем севере вместе с снежными хлопьями, — не так ли и душа человечья в смертный час
Скрывается с глаз?..
Шли старцы по темным ночам,
По дремучим лесам,
По ковровым лугам,
По речным берегам,
Шли по дорогам нехоженым,
По тропам проложенным,
По задам, по околицам,
Где трава колючая колется,
Где пески сыпучие ноги секут…
Шли правильные старцы потайно мимо сел, мимо деревень
И в какой час, в какой день
Пришли на Светлые Мхи, в наше Чертухино…
Сели правильные старцы у мокрыжины, на наш дремучий лес дивуются, воткнули в землю свои посохи; глядят, лежит у болота чекрыжина, а под чекрыжной корягой леший Антютик спит…
Обрадовались правильные старцы такой находке, позвали на ответ Антютика:
— Где у него правда божия тутытка?..
Сел с ними Антютик, слушает, как ходили правильные старцы по миру, что от него, старого лешего, требуется.
Слушал, слушал их Антютик, наконец говорит старцам правильным попросту:
— Проходили вы, видно, бороды, попусту,
Совратил вас, видно, привратник-совратник, указал вам отсель,
Где за десять верст кисель.
Хорошенько меня слушайте: мне-то вас обманывать незачем…
Я ни зверь, ни человек, ни баба, ни мужик, ничего не делаю,
Только по лесу бегаю…
Правда же на земле вот какова: кажное дерево на свой лад шумит, кажная трава свой голос подает, Кажная птица на свой манер поет,
В кажном монастыре есть свой звон,
У кажного есть свой закон,
По своему закону, по своей правденке всякий живет… Только закон с законом не сходятся, только правда на правду войной идет:
Волк ест козу,
Коза ест лозу,
А сидят все на одному возу,
Вот тут уж и я разобрать не мог,
Что правда, где ложь.
Тому хорош,
Этому плох,
Тому плох — этому хорош,
Тут ничего не разберешь,
Живи как хошь,
Потому — какая вошь
И та живет и жить хочет
И тоже о своей правде хлопочет…
Только над всей этой правдой, похожей на ложь, есть единый свет,
Ему ни конца ни начала нет.
Держит он над землей днем золотой фонарь, ночью серебряный, развешивает облаки днем, чтоб не жарило, ночью лампады теплит, чтобы было в лесу светлей.
Держит он в руках землю, как малое дитё, на все, что творится, сквозь пальцы смотрит; наклонит он над землей синие очи,
Росою луга намочит,
Деревья освежит,
Землю дождем напоит.
Прорастет на земле всяк
Зверь, злак.
Птица и гад.
И всякому он рад,
Всякого растит и холит,
Всякому мирволит…
Потому-то и дерет волк козу,
А коза Лозу,
А лоза Божью слезу
Из земли пьет.
Тем кажный и живет…
У всякого своя правда и ложь,
И всякий по-своему плох и хорош…
Ну, а теперь, — кончил Антютик, — давайте-ка с устатку да дорожки
Поедим клюквы да морошки…
Стал Антютик старцев правильных в плечи толкать-будить, да так и не добудился: вогнал он старцев правильных в такую дрему,
Что не разбудить никому…
С той поры прошло много-много лет,
Теперь уж и Антютика нет,
И от старой чертухинской рощи
Остались одни только мощи:
Пни да коряги, сучья да прутья, да корни что в земле!..
Остались только по сю пору божьи подожки, что и теперь стоят на мокрыжине, к которой ни подъехать ни подойти, можно только издали поглядеть, стоят березовые посохи, около них кочки мхом поросли, только с кочек тянутся бороды да ползет вьюн-трава по земле, окна-провалины прикрывает…
* * *Так приходит в свой час и были, и выдумке, и жизни, и всякой сказке конец…
Хорошо спать, и хорошо всем спится после Пенкиной сказки: видится всем наш родной край, наш дремучий лес, полусведенный ни за грош богачом Колыгиным.
Проспишь до утра, словно по лесу этому нагуляешься, вольного елового духу в грудь наберешь, исходишь всю вырубку, увидишь издали Светлые Мхи: на мхах без листьев березовые посохи стоят, нет на них листика, только в прилетный день по весне мелкие птахи сидят, лес делят — кому где гнезда вить.
Пек ПекычЗайчик тихо шагал по Тирульской дороге, торопиться теперь было некуда; на сердце — тревога, в душе — безнадежье…
Да и кругом не заметно умиротворенной человечьей руки: недорубленный бор смотрит вдали искаженным и обезображенным лицом, словно палач в середине казни сам испугался — вывалился у него топор из повисших рук, а жертва так и осталась с недорубленной головой лежать на помосте; уцелевшие ели и сосны смотрят уныло на вырубку, на отрубленные и брошенные без толку вершины соседей, на коренастые пни, откуда по капле течет смоляная слеза.
Стоит сосновая роща порублена, каждое оставшееся деревце на вырубке словно человек, раздетый ворами на дороге: не знает он, что ему делать, кому жалобу нести, кого просить.
Смотрит из-за них синим опечаленным глазом Счастливое озеро, трепыхает на нем быстрое парусное крыло, низко наклонившись к воде под неумелой женской рукой, и по берегу, где недавно еще стояли рыбацкие чистые хаты, теперь только пеньки да обугленные бока полусгоревших строений: бросил немец на рыбачье село с летучей машины в сухмень стальное, начиненное огнем, высиженное самой смертью яйцо, замутила чистые озерные воды ядучая сиротская слеза.
Летят по небу гуси с грудным настороженным гоготом, вытянув шеи, забирая все выше и выше при виде окопных дымков, тянут под самыми облаками с серебряным присвистом журавлиные стаи, оглашая дали печальным прощальным курлыканьем:
«Родина, родина, тебя скорей журавли могут унести на своих крыльях, чем огнем лютый неведомый враг выжечь из сердца, отнять и ввергнуть в небытие: нет для тебя погибели, потому что велика и величава полевая печаль от века, ни один народ ее не примет, ни одна душа не благословит, ни одно сердце песни о ней не сложит!..»
Летит стая за стаей, лента за лентой, и эти журавлиные ленты под небом разве только встречный ветер всколышет, а вожак впереди и крылом не дрогнет, и тревожного знака не подаст молодым, когда стосковавшийся в серой шинели мужик приложится желтой щекой к ложе винтовки, мушку на вожака наведет, потом зажмурит от солнца глаза и дернет курок:
В белый свет, как в копеечку…
Подморгнет товарищу, упершему в землю глаза, и тоже в землю молчаливую уткнется и больше не взглянет на небо с журавлиными лентами в синей косе…
Разорвет их только разве поутру да в вечер железная птица, вылетевшая из-за немецких берегов на разведку…
* * *Пошел Зайчик к штабу полка и начал раздумывать, куда ему лучше сейчас заявиться — в штаб или прямо идти в свою роту.
К командиру пойти — налететь на разгоняй, в роту — на распаляцию к Палон Палонычу! Да и где теперь рота, тоже не известно, хоть и насидели место, а за такой срок все может случиться!..
«Пойду лучше к Пек Пекычу», — подумал вдруг Зайчик, вспомнивши давнишнюю славу у нас старшего писаря Петра Петровича Дудкина, который тайно ворочал всеми полковыми делами.
«Только скверно: денег нет ни копейки…»
Сунулся он в карман гимнастерки, не завалилась ли где какая бумажка, нащупал в углу катушок, вытащил, развернул: сторублевка.
«Это Клаша, наверное, — подумал Зайчик, — а может, и та… впрочем, сейчас это не важно…»
Было еще довольно раннее утро, писаря еще не вставали, и Пек Пекыч в отдельном своем помещении в постели лежал, как генерал.
Зайчик постучал к нему и вошел. Пек Пекыч и головы не поднял…
— Доброе утро, Петр Петрович, — сказал Зайчик, присевши к нему на кровать, и руку ему протянул, в которой ловко был зажат катушок, — выручайте, голубчик…
Пек Пекыч глаза чуть приоткрыл, катушок учуял ладонью, сунул его себе под подушку и недовольно сказал:
— Откуда же это вас присадило?.. Я вас исключил…
— Как исключил!..
— Без вести.
— Как же, Петр Петрович, голубчик, надо бы это исправить!..
— Да, конечно, не беспокойтесь: будет все в самом наилучшем виде.
— Вот и ладно.
— Завтра же водворим на прежнее место…
— Вот и ладно: поменьше бы только хлопот да представлений!