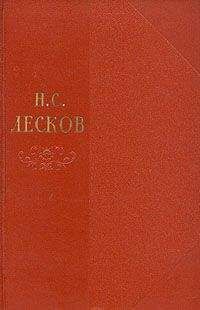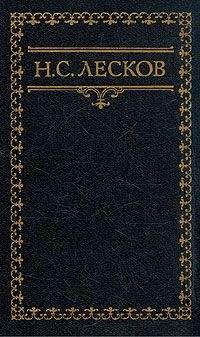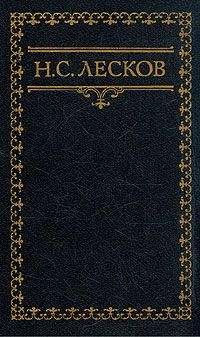Николай Гейнце - Самозванец
— Ну что? — спросил Долинский тихо доктора после осмотра.
— Жизнь не в опасности, но ампутацию сделать придется. Раздроблена голенная кость левой ноги.
Доктор сделал первоначальную перевязку, а затем все вчетвером бережно вынесли раненого из леса и уложили в коляску… Доктор сел с ним, и коляска шагом направилась к усадьбе.
Остальные пошли пешком.
Также бережно внесли Неелова в его кабинет и уложили в вольтеровское кресло.
— Садитесь рядом со мной, — сказал он Долинскому. — Мне нужно переговорить с вами… Теперь Любовь Аркадьевна едва ли захочет венчаться с калекой, — продолжал он. — Мне теперь нужна уже не жена, а сиделка на всю остальную жизнь. Все, все пропало!
Он тяжело вздохнул и замолчал.
— Послушайте, привезите ее… — сказал он после некоторой паузы.
— И священника! — добавил Сергей Павлович.
— Ну и священника, если хотите, — согласился Владимир Игнатьевич.
Долинский и Таскин уехали, а Савин и доктор остались при раненом.
По приезде в Москву Долинский передал все Елизавете Петровне, всячески стараясь выставить Неелова в лучшем свете.
Но когда она передала его рассказ Любовь Аркадьевне, то она поняла роль ее друга и горячее чувство приязни к нему еще усилилось.
— Он плох?.. — было ее первым вопросом, когда она вместе с Долинским и Дубянской на другой день приехали в именье Неелова.
— Кажется, необходимо будет ампутировать ногу, — морщась, ответил доктор. — А там увидим… всяко бывает…
— Люба… — сказал Владимир Игнатьевич. — Совесть заставляет меня загладить зло… Если я умру, ты будешь свободна, а если выживу, тебе придется быть прикованой на всю жизнь к креслу калеки и твоего врага.
— Для меня не остается выбора, — ответила она, — но я буду тебе благодарна за то, что ты не бросил меня на позор.
В это время приехал Долинский с сельским священником и дьячком, которых ему удалось ссылкой на законы и даже на регламент Петра Великого убедить в возможности венчать тяжело больного на дому, тем более, что соблазненная им девушка чувствует под сердцем биение его ребенка. В этом созналась Любовь Аркадьевна Дубянской.
Начался обряд венчания.
Неелов сидел в кресле, его шафером был доктор и, стоя сзади, держал над ним венец.
У Селезневой был шафером приехавший снова по просьбе Сергея Павловича Таскин, и ее обвели три раза вокруг кресла больного жениха.
Обряд окончился.
Честь Любовь Аркадьевны Селезневой была восстановлена, но Долинский не выдержал до конца и уехал на станцию, а оттуда в Москву.
На другой день, приехав снова в имение, он застал в доме Неелова целый консилиум врачей.
Елизавета Петровна занималась по хозяйству.
Любовь Аркадьевна была одна в своем будуаре. Сергей Павлович вошел туда.
Молодая женщина бросилась к нему навстречу и неожиданно для него упала перед ним на колени.
— Честь ваша спасена, хотя вы будете очень несчастны, Любовь Аркадьевна! — сказал он, поднимая ее. — Но прошу вас, что бы ни случилось, знать, что я ваш на всю жизнь… Теперь я уеду, но в знак вашего расположения, дайте мне что-нибудь на память.
— Вот кольцо… — взволнованным голосом проговорила она. — Это первый драгоценный подарок, сделанный мне папой… я дорожила им больше всего.
Она сняла с пальца колечко с изумрудом и бриллиантового осыпью, подала Долинскому и тотчас вышла.
Но в зеркале он видел, что по лицу ее струились крупные слезы.
Владимиру Игнатьевичу отняли ногу, но операция удалась блистательно, и больной был вне опасности.
Все, кроме Таскина, уехавшего накануне, и Долинского, вернувшегося также в Москву после разговора с Любовь Аркадьевной и получения от нее кольца, несколько дней провели в имении Неелова, куда даже приехала и Мадлен де Межен, вызванная Савиным.
Когда опасность для больного миновала, они тоже вернулись в Москву, но за это время Николай Герасимович глубоко оценил достоинства Елизаветы Петровны Дубянской и окончательно стал благоговеть перед этой девушкой.
На другой день по возвращении в Москву Долинский и Дубянская уехали в Петербург, куда раньше послали письмо с извещением о состоявшемся бракосочетании Неелова и Селезневой.
VI
МАТЬ И НЕВЕСТА
В Петербурге Елизавету Петровну ожидало роковое известие. В своей комнате, в доме Селезневых, на письменном столе она нашла письмо Анны Александровны Сиротининой. Письмо было коротко, очень коротко, но в нем чувствовалась такая полнота человеческого горя, что, охватив сразу все его глазами, Дубянская смертельно побледнела.
«Большое несчастье. Приходите, родная.
Ваша А. Сиротинина».Вот что прочла в письме Елизавета Петровна, и, переодевшись с дороги, даже не заходя к Екатерине Николаевне Селезневой — Аркадий Семенович встретил их на вокзале — тотчас поехала на Гагаринскую.
В уютной квартирке Сиротининых царило бросившееся в глаза молодой девушке какое-то странное запущение.
Казалось, все было на своем месте, даже не было особой пыли и беспорядка, но в общем все указывало на то, что в доме что-то произошло такое, что заставило его хозяев не обращать внимания на окружающую их обстановку.
Самое выражение лица отворившей на звонок Елизаветы Петровны дверь прислуги указывало на совершившийся в этой квартире недавно переполох.
— Дома Анна Александровна? — спросила Дубянская.
— Дома-с, пожалуйте, — отвечала служанка, снимая с молодой девушки верхнее платье.
— Здоровы?
— Какое уж их здоровье…
В тоне голоса, которым произнесла прислуга эту фразу, слышалось что-то зловещее.
— Это вы! — вышла навстречу гостье в гостиную Анна Александровна.
— Здравствуйте.
Все это было сказано старушкой с какими-то металлически-холодными звуками в голосе.
Елизавета Петровна остановилась перед ней, как окаменелая.
Сиротинина до того страшно изменилась, что встреть она ее на улице, а не в ее собственной квартире, она бы не узнала ее.
Еще недавно гордившаяся, что у нее почти нет седых волос, она теперь выглядела совершенно седой старухой.
Страшная худоба лица и тела делала ее как будто выше ростом. Платье на ней висело, как на вешалке. Морщины избороздили все ее лицо, а глаза горели каким-то лихорадочным огнем отчаяния.
— Что с вами, дорогая? Что случилось? — кинулась к ней молодая девушка. — Дмитрий Павлович болен?
— Хуже…
— Умер?
— Хуже…
— Что же с ним? Бога ради, не мучьте меня.
— Он… в тюрьме… — не сказала, а вскрикнула со спазмами в голосе Анна Александровна.
— В тюрьме… — бессмысленно глядя на старушку, повторила Елизавета Петровна, — в тюрьме?
Ноги ее подкосились, и она, схватившись за преддиванный стол, у которого они стояли, в изнеможении скорее упала, чем села в кресло.
— В тюрьме… — снова с каким-то недоумением, видимо, не понимая этих двух слов, повторила она.
— Да, в тюрьме… А вы этого не знали? — сказала Сиротинина с какой-то злобной усмешкой.
— Откуда же знать мне?
— Весь Петербург знает… Все газеты переполнены.
— Я это время не читала газет и не была в Петербурге.
— Вы не были в Петербурге?
— Я была в Москве, по поручению Селезневых… Туда убежала с Нееловым их дочь… Мы ездили за ней…
— О, Боже, благодарю тебя! — вдруг воскликнула старушка. — Простите меня… прости, Лиза, — и она с рыданиями бросилась обнимать Дубянскую.
Та вскочила, поддерживая на своей груди плачущую горькими слезами старушку, усадила ее в кресло и опустилась у ее ног на ковер.
— Успокойтесь, милая, дорогая… Расскажите, что случилось? — умоляла она.
Анна Александровна продолжала плакать навзрыд.
— А я подумала, что и ты, Лиза, веришь в то, что он виноват… — сквозь рыдания говорила она.
— Виноват? Кто? В чем?
— Мой Дмитрий… в краже…
— В краже?.. Что вы говорите? Разве может быть человек, кто этому поверит?
— Все верят… Его обвиняют, а он не может оправдаться…
— Это невозможно!
— Возможно… Все улики против него…
Сиротинина, несколько успокоившись, рассказала подробно и насколько возможно при ее состоянии толково все дело Дмитрия Павловича Сиротинина — об оказываемом ему доверии молодым Алфимовым, обнаружении растраты, аресте. Показала его письмо, которое она с момента получения хранила у себя на груди.
— Вы виделись с ним? — спросила Елизавета Петровна, выслушав этот печальный рассказ.
— Да.
— Что же он?
— Он спокоен… Он невиновен…
— Это само собой разумеется… Но он должен оправдаться…
— Он говорит, что это невозможно…
— Деньги взял не он… Я знаю, кто взял деньги.