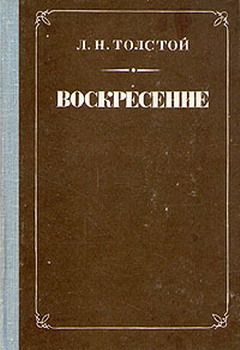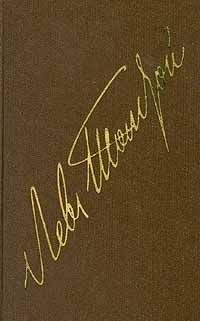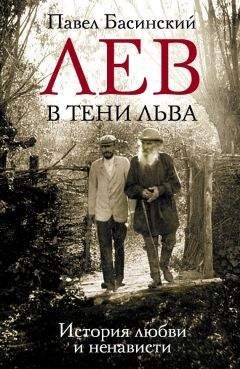Лев Толстой - Воскресение
Игнатий Никифорович чувствовал, что Нехлюдов осуждает его, презирая всю его деятельность, и ему хотелось показать ему всю несправедливость его суждений. Нехлюдов же, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землею (в глубине души он чувствовал, что зять, и сестра, и их дети, как наследники его, имеют на это право), негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полною уверенностью и спокойствием продолжал считать правильным и законным то дело, которое представлялось теперь Нехлюдову несомненно безумным и преступным. Самоуверенность эта раздражала Нехлюдова.
– Что же бы сделал суд? – спросил Нехлюдов.
– Приговорил бы одного из двух дуэлистов, как обыкновенных убийц, к каторжным работам.
У Нехлюдова опять похолодели руки, он горячо заговорил.
– Ну, и что ж бы было? – спросил он.
– Было б справедливо.
– Точно как будто справедливость составляет цель деятельности суда, – сказал Нехлюдов.
– Что же другое?
– Поддержание сословных интересов. Суд, по-моему, есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию.
– Это совершенно новый взгляд, – с спокойной улыбкой сказал Игнатий Никифорович. – Обыкновенно суду приписывается несколько другое назначение.
– Теоретически, а не практически, как я увидал. Суд имеет целью только сохранение общества в настоящем положении и для этого преследует и казнит как тех, которые стоят выше общего уровня и хотят поднять его, так называемые политические преступники, так и тех, которые стоят ниже его, так называемые преступные типы.
– Не могу согласиться, во-первых, с тем, чтобы преступники, так называемые политические, были казнимы потому, что они стоят выше среднего уровня. Большей частью это отбросы общества, столь же извращенные, хотя несколько иначе, как и те преступные типы, которых вы считаете ниже среднего уровня.
– А я знаю людей, которые стоят несравненно выше своих судей; все сектанты – люди нравственные, твердые…
Но Игнатий Никифорович, с привычкой человека, которого не перебивают, когда он говорит, не слушал Нехлюдова и, тем особенно раздражая его, продолжал говорить в одно время с Нехлюдовым.
– Не могу согласиться и с тем, чтобы суд имел целью поддержание существующего порядка. Суд преследует свои цели: или исправления…
– Хорошо исправление в острогах, – вставил Нехлюдов.
– …или устранения, – упорно продолжал Игнатий Никифорович, – развращенных и тех зверообразных людей, которые угрожают существованию общества.
– То-то и дело, что оно не делает ни того, ни другого. У общества нет средств делать это.
– Это как? Я не понимаю, – насильно улыбаясь, спросил Игнатий Никифорович.
– Я хочу сказать, что, собственно, разумных наказаний есть только два – те, которые употреблялись в старину: телесное наказание и смертная казнь, но которые вследствие смягчения нравов все более и более выходят из употребления, – сказал Нехлюдов.
– Вот это и ново и удивительно от вас слышать.
– Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти наказания имеют разумный смысл. Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращенного праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму, в условия обеспеченной и обязательной праздности, в сообщество самых развращенных людей? или перевезти зачем-то на казенный счет – каждый стоит более пятисот рублей – из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской…
– Но, однако, люди боятся этих путешествий на казенный счет, и если бы не было этих путешествий и тюрем, мы бы не сидели здесь с вами, как сидим теперь.
– Не могут эти тюрьмы обеспечивать нашу безопасность, потому что люди эти сидят там не вечно и их выпускают. Напротив, в этих учреждениях доводят этих людей до высшей степени порока и разврата, то есть увеличивают опасность.
– Вы хотите сказать, что пенитенциарная система должна быть усовершенствована.
– Нельзя ее усовершенствовать. Усовершенствованные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, и легли бы новою тяжестью на тот же народ.
– Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд, – опять, не слушая шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорович.
– Нельзя исправить эти недостатки, – возвышая голос, говорил Нехлюдов.
– Так что ж? Надо убивать? Или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза? – сказал Игнатий Никифорович, победоносно улыбаясь.
– Да, это было бы жестоко, но целесообразно. То же, что теперь делается, и жестоко и не только не целесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом и жестоком деле, как уголовный суд.
– А я вот участвую в этом, – бледнея, сказал Игнатий Никифорович.
– Это ваше дело. Но я не понимаю этого.
– Я думаю, что вы многого не понимаете, – сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорович.
– Я видел на суде, как товарищ прокурора всеми силами старался обвинить несчастного мальчика, который во всяком неизвращенном человеке мог возбудить только сострадание; знаю, как другой прокурор допрашивал сектанта и подводил чтение Евангелия под уголовный закон; да и вся деятельность судов состоит только в таких бессмысленных и жестоких поступках.
– Я бы не служил, если бы так думал, – сказал Игнатий Никифорович и встал.
Нехлюдов увидал особенный блеск под очками зятя. «Неужели это слезы?» – подумал Нехлюдов. И действительно, это были слезы оскорбления. Игнатий Никифорович, подойдя к окну, достал платок, откашливаясь, стал протирать очки и, сняв их, отер и глаза. Вернувшись к дивану, Игнатий Никифорович закурил сигару и больше ничего не говорил. Нехлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и больше не увидится с ними. В смущенном состоянии он простился с ними и поехал домой.
«Очень может быть, что правда то, что я говорил, – по крайней мере, он ничего не возразил мне. Но не так надо было говорить. Мало же я изменился, если я мог так увлечься недобрым чувством и так оскорбить его и огорчить бедную Наташу», – думал он.
XXXIV
Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в три часа, и потому, чтобы видеть выход партии из острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в острог раньше двенадцати.
Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано: «Катюша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, – боюсь верить, – происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает». Тут же, вслед за этим, было написано: «Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице. И вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее, и вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». На нынешнее число он записал: «Был у Наташи и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну, да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству».
Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем.
«Так нельзя уезжать, – подумал он, – надо съездить к ним и загладить».
Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. Второпях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосьи, который ехал с ним, прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в острог. Арестантский поезд шел за два часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться.
Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое тепло в жаркий, неподвижный воздух. Ветра не было, а если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно-загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лаптях сидели посередине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам, да мрачные городовые, в небеленых кителях и с оранжевыми шнурками револьверов, уныло переминаясь, стояли посереди улиц, да завешанные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам.