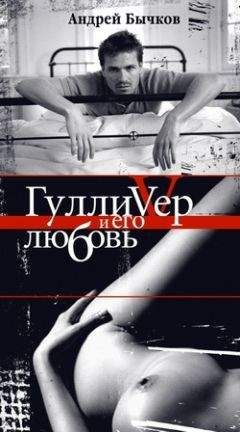Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки
А может, все это только мое воображение по желаемому – эта вечная моя тревога, постоянное беспокойство, изводящая бедность и отчаяние перед человеческой беднотой! – или внушено заражающим зрелищем осьминогого чудовища – по концам о двух мордах с высунутыми языками – кульминационный пункт и снисхождение благодати зачатия! – цветение первородного сгустка крови. За пустырем пусто. Старик вдруг проснулся – острая боль укусила его, и он сразу понял: воспаление той самой железы, которая и есть все его первородное существо – первородный сгусток крови. Он завернулся с головой в одеяло и затих, прислушиваясь к резкой кусающей боли; и одно желание: дождаться, дотерпеть, когда успокоится. А это нестерпимо яркое первое весеннее утро в окно, и надо вставать, а на свет не глядел бы!
Но если я ошибся, и у старика все в порядке, и никакого приступа боли, и от напряжения вытягивается для какого-то равновесия язык, и язык его красен, как у Тотора – –
«Я ему кричу: «валяй, старик!» Попытаться ничего не стоит. Не больше, во всяком случае, чем ждать пока не развалится дом или он сам».
А любопытно бы взглянуть, какая такая за пустырем Флоранс… какая из виртуознейших среди белых, черных, коричневых и желтых, столько раз описанных Шахразадой, какая… а может быть, и никогда не проходившая «науку любви» и не Амадиса, а восточных гаремов, а просто наделенная одним природным инстинктом, я встречал таких, только и заметных по расширяющимся ноздрям и беспокойству, а служит в каком-нибудь почтовом бюро. Но я не могу забыть и счастливую мою соседку – и разве уж такое это счастье быть только зрителем! Какие у мадемуазель Пэдон чистые, глупые глаза! Одинокая, только и развлечения, что этот ее «кабо»! Но посмотрите, как она раскраснелась, ее горячие губы пышут, как и ее ноздри, все лицо сияет… и почему не она?
Но что меня вдруг осенило: старик Адам… да ведь у тебя была и другая привязанность и совсем из другого мира: ее ноздри не расширены и никакой этой виртуозности белой, черной, коричневой и желтой, и не человек она, а джинния – эта «сверкающая резкая красота» – у Гоголя она обращается в собаку, и синяя с горящими глазами пьет детскую кровь, выбирая самых одаренных природой – кровью, чтобы перевести на какую-то высшую ступень, ближайшую к своему миру джиннов, т. е. истончить и окончательно «опорочить» – сделать не «под стать» и не как «все». Такая не заведет себе «кабо» и, держа на ремне, весну открывать в качестве зрительницы никогда не согласится и не станет, как эта с раздувающимися ноздрями беспокойно приподниматься… Гордая и непреклонная, вдохновительница мечты «станем, как боги», никогда не удовлетворяющаяся никаким райским безмятежным блаженством, бунтующий мятежный дух, из-за которого человек и стал человеком со своим первородным грехом, отравой этого духа – и это правда, о «грехопадении во сне», да только во сне могла явиться так ярко мечта и вызов: «станем, как боги!» – «сверкающая резкая красота», от которой больно глазам и нормальному человеку беспокойно – «не надо» и «оставьте меня в покое», вот что подымается у нормального при встрече. И этот сверкающий дух, показавший Гоголю Вия, а Достоевскому Тарантула, есть не что иное, как бунт против этого Вия и Тарантула, этой всемогущей слепой силы, «темного корня мирового бытия», и бунт и мечта о каком-то доме для человека – не «inferno», но никогда и не конурке, хотя бы и оборудованной по последнему слову техники, а годной для ограниченного «механического» человека, этого идеала нормального человека – «мастера» новой человеческой расы. И, может быть, весь пыл старика, у которого была и другая роковая привязанность – «сверкающая резкая красота», вдохновлен этой мечтой, и новая человеческая раса, начало которой кладется сейчас за пустырем, приготовит такую революцию, которая не оставит камня на камне от всех этих строго распланированных конурок райской собачьей жизни.
Вспомнив о десяти франках – вчерашний дар «на бедность», я зашел в наше бистро купить папирос. Я с утра не курил и, закурив «bleue»235, самое крепкое, вдруг очнулся, и спросил у бюролистки, как зовут их собаку:
– Три года по утрам встречаю вашу собаку.
– А вам на что?
Я смутился.
– Так, – сказал я, – всякий день ее вижу.
– Зозо, – неохотно ответила бюролистка, – только она за чужими не идет.
И я понял, почему неохотно: и какое надо мне еще свидетельство о бедности? – ясно, она подумала, взглянув на меня, что я хочу подманить Зозо.
5. Куаффер
Мне очень жалко бывает детей, так жалко, что и сказать не могу. В этой моей жалости есть общее с моим чувством к животным: дети, как и животные, сказать не могут.
Из всех детей последней моей встречи мне жалко Альфреда. И не могу я его забыть.
Альфред младший из всех, ему десять лет. Есть и еще моложе – Бебер, но Бебер сам себя называет Картуш, и часами бегает с двумя разбойничьими револьверами и всех «пугает»: один револьвер его, а другой его сестры Синет, которой некогда играть в разбойники. Мать у них умерла, и только бабушка, – и вот Синет за хозяйку. Она ровесница Альфреду, а совсем, как маленькая фам, – с приемами фам-де-менаж, и когда я попросил ее что-нибудь спеть, она сначала жеманничала, потом согласилась и с час пела без всякого слуха с их носовой оттяжкой, так что я не знал, как ее и остановить, и все одно и то же, представляя зверей и птиц. Есть и еще моложе Бебсра, – брат Альфреда Ренэ, я его принял за девочку, говорит кончиком языка: «бонжул»… Но другие-то все – те, что составляют «Рожерскую Академию», – все сверстники и старше Альфреда: двенадцать лет.
«Академией» назвали, конечно, большие: L’Académie de la Rogère – «Рожер» – деревня. А назвали так за грамматические неправильности и коверканье слов.
Большие часто говорят о политике: из русских имен повторяется Сталин, с ударением на «лин». И вот получилось: «президент Советов Нафталин». А из диктовки – очень понравилось о Полифеме: «одноглазый монстр!» – и Улис превратился в Утис: «предводитель греков Утис», «cependant Utysse, cherchait le moyen de se tirer de l’antre…»236. Никто не видал арбуз, но слышали и говорят «пастек»; «шеф дынь – «паскет». Вместо «волоса», – les crignasses237. Вместо «il a plu»238 – «il pleuva»239. И всевозможные «мо де Селин». Никто из больших не читал Селина, знают по имени из газет. И не от Селина240 идут у детей всякие «флофля» и «шиши», а из общего источника народной речи.
На каникулах не все время устраивается «тур де Франс», а каждый что-нибудь делает. Один на пляже продает газеты, другой рассыльный мясной; кто на рыбной ловле – за палюрдами и мулями; есть и гарсон – этого я не видел.
Единственный, пожалуй, Морис бьет баклуши, и все-таки и ему находится занятие: он вроде «грума» и за молоком. Только он не очень-то исполняет свою должность: у него один неизменный ответ: – «tout à l’heure»; а кто не знает продолжительности этого «сейчас».
Все «госы» курят – вся рожерская Академия. Морис мне сказал, что уж три года, как курят, – весь класс; ну, не по-настоящему, а только дым пускают. Все они себе и профессии выбрали: кто кем будет. И не столько сами они, сколько внушено им.
Морис – ветеринаром. Морис любит животных: коров, лошадей, собак; из картона он вырезает коров – единственные еще сохранившиеся игрушки; и любимый его кот Кори, с ним, я слышу, по утрам он разговаривает, как с человеком. Конечно, Морис хотел бы быть «казак рюс» и джигитовать или быть бы ему «la princesse noire Zama et l’énigmatique Karmox»241; казаков он видел три года назад на работе и до сих пор помнит, так его поразили лошади и ловкость, а черную принцессу Заму и Кармокса нынче на Пасху в бродячем цирке. Или быть бы ему шоффером Ситрона и мчаться за рулем в автокаре, заломив каскетку: курить и разговаривать с ним запрещается. Морис собирает использованные тикетки, – ведь он только будущий ветеринар! – и самая любимая его игра в автокары, конечно, никогда не обходится без аксиданов: то бензину не хватает, то шина лопнет. С автокарами вообще по дороге не случалось несчастья, а с автомобилями, и особенно местными, очень часто. Один «боном» побил рекорд, – пятьдесят и один несчастный случай за лето: завел такую привычку – как в дороге, спать, ну, и понятно, то наскочит на километрический камень, то угодит в канаву. Морис, как и все его копэны по Академии, велосипедист и хотел бы участвовать в «тур де Франс», как это он видит в газете с портретами, где все участники на одно лицо без всякого различия, и так легко увидеть себя, и только не хватает подписи! Рисовать Морис не любит, он срисовывает, потому что заставляют, и, главным образом, департаменты, чтобы знать все префектуры и супрефектуры. И единственное, что он рисует охотно, по совести, – не географическое, а согнутого велосипедиста: шесть фигурок с «départ»242 до «arrivée», означая отход и прибытие деревьями. Но, говорят, ветеринаров мало, и быть ветеринаром выгодно, а, кроме того, «животные чище человека». Что выгодно, это Морис очень хорошо понимает, но о преимуществе животных трудно понять. Он привык слышать «саль бет», «саль кошон», – он еще не столкнулся с волосатым «грязным» человеком, про которого наши старообрядцы говорят: «образ Божий в бороде, а подобие в усах», – с этим венцом творения: «саль ом». А этого «грязного человека» описал со всеми физиологическими подробностями Селин, столкнувшийся в своем «путешествии на край ночи», где «chacun pour soi, la terre pour tous» и где «la vérité, c’est la mort; il faut choisir, mourir ou mentir»243. Морис думает, что этот Селин только собиратель словесных «куйонад»!