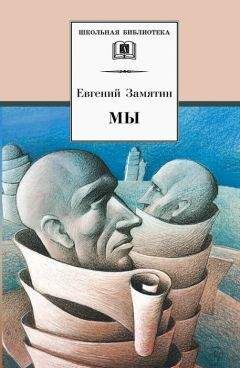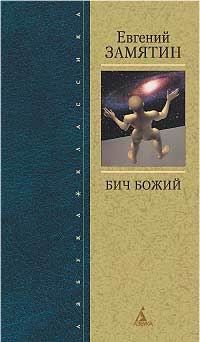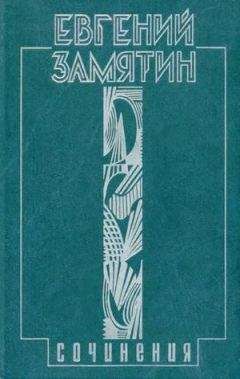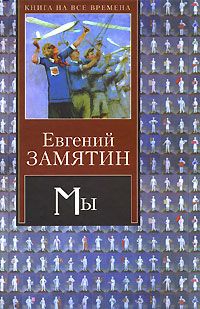Евгений Замятин - Том 1. Уездное
И снова, как глобус, медленно мир повернулся перед Колумбом. И дальше поплыл он без Бога…
<1918>
Колумб (повесть)*
У Колумбов землишка была в Рязанской губернии, десятин там сто-полтораста – жили не горазд богато. А учителя сынишке своему – англичанина выискивали, да и не просто чтоб был англичанин, не из Англии, а из самых из Северо-Американских Соединенных Штатов. А иначе никак и нельзя: фамилия ихняя такая особенная. Хоть и не Христофор, а Иван Иванович сын-то их, ну, а все-таки, знаете, нельзя…
– В Рязанской губернии у нас – чистая беда, ничего-ничегошеньки нету, – жаловался Колумбов отец. – Ивану своему учителя ищу. Американца надо. Другой год уже бьюсь, никак не найти…
А пока что препоручили Иван Иваныча обучать дьячку Евдокиму. Временно, конечно.
Дьячок Евдоким пчел до страсти любил водить. И пока о пчелах Ивану Иванычу рассказывал, о премудром житье их, слушал малый его. А как чуть Евдоким насчет чистописания или Диктанта – так сейчас Иван Иваныч лататы. Евдоким – за ним. Догнать-то, конечно, куда уж… А вот засядет Евдоким в бурьян или где-нибудь там за дверью – да оттуда скок. И сцапает Ивана и представит к отцу: так и так, мол, шалберничает малый, приструнить бы надо. А Иван Иваныч пред отцом стоит, ижицей ноги растопырил, упористо этак: сдвинь-ка, мол. И лоб нагнул, а на лбу, слева и справа, колечки жестких волос, как у бычка молодого. Пощупать тихонько бы: нет ли под теми колечками, не выбиваются ли маленькие твердые рожки. Отец мимо куда-то в окно гладит, равнодушен:
– Ну, что там… Это ведь так себе, временно. А вот когда мы тебе англичанина достанем из Соединенных Штатов, тогда уж… Ты, брат, одно себе запомни, какая твоя фамилия особенная. Сообразно живи…
Прошло года три – и сковырнулся старый Колумб: пробовал собственного изобретения молотилку, разнесло молотилку вдрызг – самого и убило. Так и помер – сыну американца не отыскал.
Открылись долги, землишку Колумбы продали, мать уехала к тетке в именье жить. А Ивану Иванычу куда же деваться? Ивану Иванычу только и осталось в юнкерское идти.
В юнкерском Иван Иваныч раскорячился, стал в коридоре подле бака с водой кипяченой, да так два дня и простоял: воду все голошил и глядел все кругом, прехмурый, – так все было далеко от лесов-полей.
А кругом как в котле кипучем кипит. Юнкера – по коридору гуляют, обнявшись; юнкера – за дверью в углу грабят пирожки у новичка; а самые какие похитрей – гладят полковницкую Мимишку:
– Мимишка, Мимишка, ах ты какая… Какая белая-то, а? – и погладывают умильно на полковника, а Колумб из-за угла, из глуби – на них.
«Эх, пинком бы эту самую Мимишку и всех… и задать бы лататы…» Но лес далеко.
После обеда Мимишка с ума сошла: фыркала, визжала, кружилась вокруг себя, как овца в вертячке злой.
– Мимишка… Мимишка сбесилась. Держи, а, держи…
Поймали, поглядели: ан она… голубая, Мимишка-то, а не белая…
Полковник прибежал. Нос у полковника приставной, на очках держался – нос у полковника запрыгал:
– Как? Сейчас же… Кто?.. – а голосу и нет уж. Юнкера прятались за спины. Из-за спин вышел Колумб на середку, уставился попрочней:
– Это я, господин полковник. Это я тушью голубой намазал.
– Как-как смел? В карцер… на-на сутки! Нет, ты зачем это сделал?
– Я стоял… – начал было Колумб; («Да нет, не поймет безносый».) – Так надо было, господин полковник.
– На-надо было? На-на-на трое суток!
Колумб – налево кругом и в карцер. Но за «голубую» Мимишку – освободили Колумба от. «приемных испытаний». Всех других новичков-пистолетов «поцукали» здорово: какие ночью в спальне в сапогах на босу ногу прыгали через веревочку; какие пили двенадцатую кружку воды; какие кончали получасовой бег на месте…
Колумб держался дичком, всегда хмурый. И было видать: что-то шевелилось за крепким его лбом, а что – неизвестно. Со всеми Колумб разве только водки хлебнет иной раз. Да и то, выпивши, все так же крепко стоял он на ногах, как вчера, и все так же молчал.
Как-то раз на занятиях по тактике загудела в классе синяя муха-громотуха. Звонко так, важно. Прислушались юнкера – и услыхали: а ведь весна, ей-Богу. Почесались:
– Эх, да кабы не экзамены…
И загудела по классам, как рой пчелиный, зубрежка: зубрили науки вслух, и всяк свое бормотал. А за окном, как назло, зеленая лезла травка, воробьи верещали вовсю.
Позанимался Колумб, приустал, учебу отложил. «Нет, а гулять идти не резон: потом за книгу не сесть. Лучше уж так что-нибудь почитать».
Какая-то про химию книжка. Страничка, другая, десятая…
«Из воздуха, ну, просто вот из воздуха – и вдруг селитра. А из селитры, известно, порох…» – так прошибло это Колумба, ну, просто… Химия – вот это, мол, наука так наука, а не то что…
Наутро на толкучку побежал Колумб, накупил там старых химических книг, снадобий, пузырьков – и засел. В парте у себя развел лабораторию целую. Крышку парты поднимет, голову – под крышку и ворожит с утра до ночи.
– Колумб, да будет тебе играть-то! Обедать пойдем.
– Я не играю, – голос такой сумрачный, должно быть, и впрямь – не играет.
На тактике Колумб устойчиво ноги расставил и долго молчал. И к ужасу экзаменаторов – вдруг:
– Я собственно химией занимался…
– Хи-ми-ей!?
И тут Колумб, загоревшись, высыпал вдруг все: про воздух, про селитру, про алхимию, про абсолютный нуль… Полковник подергал очками (и вместе с очками – носом) и сказал:
– Мм… по химии – отлично. Но по тактике – абсолютный нуль. Вот именно – абсолютный нуль. Так и запишем.
Так шло и дальше. С книгой Колумб сидел постоянно, но смотрел мимо страниц. Над одним каким-нибудь словом? засидится – и час, и два над ним сидит: обязательно ему надо добраться до самого корня, до дна, до «настоящего». С такой сноровкой просидел Колумб в юнкерском два лишних года, да и то еле-еле, через пень-колоду; добрался до конца.
2Город был тихий. Жители всего боялись: исправника, соборного протопопа, собак, коров, даже комолых. Некуда было пойти: в винт Колумб не играл и учиться играть не хотел. Колумб обложился книгами и читал до «корня», чтоб дочитаться.
– Все, брат, читаешь? – любопытно заглядывал в книги Володя, поручик, сожитель квартирный.
– Да вот… читаю.
– Гм. Ну, и про что же, например, так – если в двух словах?
– Это-то вот? Это – про «вещи в себе», то есть… Я это только еще издал я… а уж чувствую: это-то она и есть, понимаешь, уж до корня, до дна… Не то что вот сукно – зеленое снаружи, а какое оно – настоящее… На-сто-ящее!
– Смотри, брат Колумб, в кошелке поедешь. Помнишь, про дьячка-то я тебе: Библию всю прочитал – да в кошелке и поехал.
Помолчит, посмакует папиросу Володя – и заключит:
– Настоящее-то, брат, в жизни одно… – и такую пулю отольет, что у Колумба уши завянут.
Ругается Колумб про себя: «И чего я с ним? И чего я ему вздумал?..»
В сочельник вечером, часов в шесть, вышел Колумб за ворота. Мороз был крепкий, остро мерцали звезды, и тишь была темная, недвижная, но живая, особая, во чреве своем таящая праздник, свет.
«Что-то будет завтра? Хотя бы что-нибудь новое, особенное. Немножко бы хоть…» – затомился Колумб.
В подгородной слободке, тут и там, тихие, теплые, далекие запылали костры: обогревали Христа. И вместе с Ним грелся Колумб.
– Глупое же это, ненастоящее, ненужное, а вот же – хорошо, значит… А, ч-черт, – дрогнул Колумб.
Володя захохотал – всю тишину, весь сочельник взбулгачил.
– Испугался, брат? То-то. А ты знаешь, дела-то какие творятся? Новый командир ведь приехал…
– Да ну?
– …и, брат, с дочкой, дочку видел мимоходом.
– Ну и что?
– Н-не тово что-то, не показалась, – покрутил Володя. Наутро – обедня, свечи, золото риз, синий ладанный дым. И будто от запаха этого дыма – жалость о чем-то детском и досадная злость.
«Что я в самом деле? Развеяло…» – и упористо, ижицей ноги расставил Колумб и стоял спокойный уже до конца.
В два часа Колумб был с визитом у командира. Не было больше никого. Колумб стоял в пустой зале перед командиром, упрямо нагнув голову.
– …Главное, здесь клымат здоровый… Главное, здоровье… – размеренно читал командир.
«Здоровый… здорово… здоровье… – слушал Колумб, глядел на дощатый живот командира, на жилистые длинные ноги. – Наверное, он немец. Пфуль, Пфуль», – вспомнил Колумб. И юркнул в первую же паузу командирской речи. Скорее домой, к книгам.
На второй день было солнце: морозное, звонкое, в упряжи из радужных, радостных дуг. Колумб сидел у окна по-любимому: упористо, крепко голову уперев на правую руку. Мимо катила сани тройка, черкнул затем больно Колумба клич колокольчиков. На ухабе раскатились сани – к самому окну – и за стеклом совсем близко увидел Колумб: деревянная голова командира «Пфуль, Пфуль!» – и радом с ним – закинутое назад девичье лицо, меховая черная колокол-шляпа и у самого края – на черном – серебряной парчи цветок – и слеза алая – тлеет в сердцевине цветка… Лица ее Колумб так и не видел.