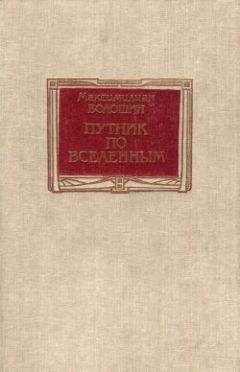Влас Дорошевич - Каторга
Бродяга Иванов пишет письма "все под одно", под диктовку Васьки Горелова, с которым они работают пополам, в одних и тех же выражениях описывает прелести сахалинского житья.
А в четвертом трюме сидит настоящий художник по части писем. Хорошо грамотный полячок - столяр, сосланный за гнусное преступление, совершенное над родной сестрой. Он пишет кудревато:
- "Склоняю свою буйную головушку на ваши дорогие коленки и целую ваши сахарные ножки, ваши белые, ненаглядные ручки".
Бедная, бедная Матрена Никонова, Тульской губернии, Епифанского уезда, сельца Зиборовки! В какое недоумение она должна прийти, когда ей прочтут по складам, что ее "мужик" Степан целует ее ножки, - да еще сахарные!"
Сколько тоски, тоски недоумения, будет у нее на лице, когда ей станут читать эту вычурную галиматью.
Бедная, бедная, неграмотная Русь.
Сколько спекуляции, но и сколько истинной захватывающей тоски в этих письмах к женам. Каким страстным, отчаянным призывом они полны:
- Приди!
Одни умоляют, заклинают:
- "Вспомните клятву вашу в церкви и как вы мне страшную клятву давали в тюремном замке, чтоб беспременно приехать. Не слушайте никого, поезжайте в город, супруга наша, и заарестуйтесь!"
Умоляют, заклинают и пишут на "вы", потому что русский человек в письмах любит вежливость.
Другие грозят:
- "Приезжайте, потому что нам известно от начальства, если только жена не согласится следовать за мужем, можно жениться".
Молодой солдат, сосланный за преступление на военной службе, описывает даже жене:
- "А если не приедешь, на зло тебе такую здесь на Сакалине себе кралю возьму, что на тебя плюнуть слюней будет жалко!"
Некоторые угрожают "прийти".
- "Если не приедете, до свидания, Аннушка. Я все-таки думаю вас видеть. Хоть не скоро, увижу. Не близко, - а приду".
Но больше все-таки молят, просят. Чем только не соблазняют эти томящиеся люди своих жен:
- Приди!
Один успокаивает:
- "Только в народе несправедливо говорят, что из моря показывается фараон, половина туловища рыбного, половина человечьего, и с ним чудища. Ничего этого нет. Поезжайте, не бойтесь!"
Другой советует ехать "даже для здоровья".
- "Будете на пароходе купаться. Вода хоть и солона, но очень полезна, - если человек болен, то может поправиться на этой воде, всякую боль выгоняет из нутра".
Как это ни странно, но очень многие стараются соблазнить жен даже... фруктами.
- "Апельсины, которые вы так любите, здесь нипочем, а в Суэске (Суэц) я даже купил десяток лимонов за две копейки. Лимоны прямо задаром!"
И над всеми этими страстными, захватывающими, словно предсмертной мольбы полными призывами, над этими наивными соблазнами, - царит, владычествует ложь про "привольное, богатое сахалинское житье".
Право, это могло бы показаться мне выдумкой, если бы я сам не списал этих фраз из арестантских писем:
- "Не знаю, как Бога благодарить, что я попал на Сахалин".
- "Житье здесь, - одним словом, не работай, ешь, пей душа, веселись!"
И все это сочиняется и посылается в деревню месяца за полтора до приезда на Сахалин, по рассказам, по советам "обратников".
И читаются эти письма по деревням. И идут в город и "заарестовываются", и начинается мученическая жизнь.
Что заставляет этих женщин бросать родину, близких, "заарестовываться", "садиться в острог", бродить по этапам, - что заставляет этих женщин, для которых мир кончается за соседним селом, пускаться в плавание "на край света", через моря, "через океаны, полные чудовищ", ехать в страну чужую, дальнюю, страшную? Любовь?
- Она проклятая!
Этот ответ вы услышите от "добровольно последовавших" редко.
Чаще услышите:
- Тоже не велика радость, апосля, как такое стряслось, на селе жить. Глаз не покажешь! Одних попреков-то не оберешься. Всяк тебя срамит, всяк паскудит: "Каторжница! Муж каторжник!" Бежала бы, куда глядят глазыньки.
Часто услышите также:
- Да ведь что он, подлец-то писал! Какие-такие чудеса! Сакалин да Сакалин! Думала, есть у него, аспида, совесть. Чужого человека погубил, может, своих-то губить не захочет. Поверила. Поехала, - думала, и впрямь жить будет... А тут... Вон он тебе и Сакалин!
И бедная баба с отчаянием оглядывает кое-как сколоченную хату, пустой двор, на котором "ни курочки", ребятишек, которые пищат:
- Мамка! Есть хоцю!
А в доме - ни крошки.
Очень многие едут по чувству долга:
- Раз Бог соединил, ничто уж разлучить не может.
- Клятва дана, в церкви венчаны, - значит, навсегда...
Очень многие едут в надежде "на новых местах", на новую жизнь, спокойную, трудовую, зажиточную. На старом месте грех вышел, жизнь разбита. На новых местах их никто не знает, они никого не знают:
- Ровно вчера родились! Живи.
Земли вволю, на обзаведение все дадут. Все будут работать, не покладая рук. А тут...
"Добровольно следующих", как я уже говорил, отправляют почему-то осенним рейсом, самым трудным.
Пароход приходит на Сахалин, в пост Александровский, нашей поздней осенью, сахалинской ранней зимой.
Вот картина прибытия "добровольно следующих", - как описывает ее мне в письме супруга одного из сахалинских врачей:
- "Мне пришлось посетить (добровольно последовавшие семьи) в карантинном сарае, когда они, по прибытии сюда, сидели в этом ужасном месте в ожидании, пока их разберут родственники. Многим из них приходилось сидеть очень долго, пока наводились справки, где находятся мужья этих несчастных жен. Сахалинская пурга (вьюга) была в этот день во всей своей силе. Крутило и рвало так, что в двух шагах не видно было ничего. Мы еле добрались до сарая. Этот сарай, как вы знаете, на берегу моря, но моря видно не было, был слышен только вой, крик, гул какой-то. Никакого ада злее выдумать нельзя, а у многих из этих бедных жен и детей не было ничего, кроме лохмотьев. Сарай был буквально набит народом. Когда мы вошли с доктором Н., то все ринулись к нему с расспросами: "Нашелся ли муж? Где муж? Когда возьмет?" Дети пищат: "Нашел тятьку? Где он? Когда придет?" А эти тятьки и мужья когда-то еще найдутся, да и, отыскавши их, не велико счастье обрящешь..."
Тем, у кого мужья на юге Сахалина, приходится целую зиму, - студеную, жестокую сахалинскую зиму, - до первого весеннего рейса жить в посту Александровском на казенном "пайке", которого еле-еле хватает, чтобы не умереть только с голода.
- А одеться, а обуться нужно? А детишек обуть, одеть?
- Как же живут?
- Да так и живут!
Те, кого вы спрашиваете, только машут рукой.
На посту Александровском я проезжал мимо складов. Смотрю, - куча баб, и начальник тюрьмы пайки им раздает.
- Что за народ?
- Добровольно следующие. Завтра на "Байкале" в Корсаковск к мужьям идут.
- Когда же их привезли?
- Привезли-то еще в прошлом году в ноябре. Да тогда уж пароходного сообщения с Корсаковским не было. Вот и оставили их зимовать до первого весеннего рейса в Александровске.
- Да ведь пароход, который их привез, мог сначала в Корсаковск зайти?
- Мог-то, мог, да такой уже порядок, чтобы всех добровольно следующих сначала в Александровск доставлять, а отсюда уже рассылают.
Изголодавшиеся, исхолодавшиеся из-за "такого порядка", неизвестно для чего целую зиму просидевшие в Александровском, бабы, ворча и ругаясь, увязывали в платки "пайки". Все валили вместе: крупу, рыбу, хлеб.
- Ты бы, тетка, поаккуратнее!
- Нечего тут разбирать! Все в один день спахтаем! Отощавши. Сакалин, чтобы ему пусто было!
Невдалеке одна из баб сидела, разливалась, плакала.
- Чего она?
- Известно, к мужу идти не хотца! Набаловалась за зиму-то!
- Набалуешься, как с голоду дохнуть придется да с холоду!
- Как теперь мужу покажется?
Баба была в интересном положении.
- Ох, убьет он меня, родныя! Ох, конец моей жизнюшке! - ревела несчастная женщина.
А рядом с ней другая причитала по другому поводу.
- И на что я теперь на этот Сакалин попала? В Рассеюшку бы!
- Да ведь сама ехала!
- Да разве я для себя ехала? Для детей все. Сама-то я одна завсегда себе пропитание найду, в работницы пойду. А с детьми куда я денусь? Из-за детей сюда и ехала.
- Ну, а где же дети?
- Примерли. Двое меньшеньких на пароходе померли, а старшенький здесь, в Александровском посту, по зиме помер. Сирота я горькая, чего я теперь к моему аспиду пойду? Провались он пропадом!
Я был при отходе этого парохода "Байкал".
На пристани одна баба рвала на себе волосы, рыдала навзрыд. Плакали дети. А около стоял поселенец, убитый, растерянный, мял в руках картуз и повторял:
- Так что уж прощайте!..
А у самого глаза были полны слез.
- Господи! Господи! - вопила баба. - За что казнишь? Этакого-то человека, хорошего, да доброго, да смирного, да работящего, кидать должна! К идолу идти, к убивцу! Чтоб опять он меня смертным боем бить зачал, детей калечил! От такого-то человека! Меня-то как любил! Детям моим лучше родного отца был!