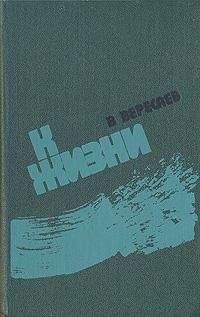Викентий Вересаев - В тупике. Сестры
И опять он стал говорить о необходимости тщательной работы, о большом браке, который получается оттого, что присохший к колодке лак загрязняет резину галоши.
Со всех концов зала раздались голоса галошниц:
– Это верно. Всего больше от этого брак. Согласилась и Бася.
– Да, верно. А скажи-ка ты мне, Царапкин, сколько ты в месяц вырабатываешь?
– Это тут ни при чем, сколько я зарабатываю.
– Ну, все-таки?
– Ну… Рублей двести.
– А сколько в день отлакируешь галош?
– Пар семьсот. Приблизительно по сотне в час.
– Та-ак… – Бася вынула свои записи. – Вот. Я твою работу подробно записала, как будто не заметила, что ты дурака валяешь. И выходит, что при такой работе, какую ты делал передо мною тогда, ты в день отлакируешь никак не больше трехсот-четырехсот пар. Ты сам себя, Царапкин, обличил. Стыдись!
Царапкин покраснел и молчал.
– Может, ты неправильно записала.
– Го-го! – В зале засмеялись.
– Нет, не беспокойся. Запись самая правильная. Председатель сказал:
– Ну, так как же… Валентин Эльский? (Каждый раз весь зал начинал смеяться.) Дело-то твое, Валентин, выходит неважное. Нужно будет тебе подумать над своею жизнью. Видал, сейчас на этом же твоем месте сидел парень, – как, хорош? Оба вы не хотите думать о социалистическом строительстве и о пятилетке. Раньше был старый капитал, при котором один хозяин сидел в кабинете и над всем командовал…
Царапкин слегка усмехнулся.
– Чего смеешься?
– Ты о политике?
– Да! О политике!
– О политике я и сам скажу.
– Ты помолчи, я еще много буду говорить о политике… Так могло быть при старом капитале, который мы обворовывали, а того больше – он нас обворовывал. А теперь какой у нас строй? Вот ты говоришь, что в политике смыслишь, – скажи.
– Скажу.
И бойко, без запинки, Царапкин стал говорить о том, что сейчас у нас хозяином всего является рабочий класс, что теперь нет, как прежде, эксплоатации рабочих, что теперь подъем хозяйства выгоден для самих рабочих.
– Правильно. Ну, я тебе сказал про старый быт, ты нам – про новый. Какую же политику нам нужно весть?
Царапкин опять усмехнулся и бойко, как первый ученик на экзамене, заговорил о необходимости рационализации производства, увеличения производительности труда, снижении себестоимости.
Председатель слушал и растерянно глядел. Когда Царапкин кончил, он сказал в раздумьи:
– Правильно ты все это говорил, а слушать тебя было как-то… огорчительно. На тебя, я примечаю, какие-то особенные нужны слова, контрольные. Наши слова ты все и сам знаешь. – Он вздохнул. – Плохо, парень, то, что слова-то наши ты знаешь, а вот пролетарских чувств наших не знаешь, даром, что сам пролетарий… Ну, товарищи, кто желает высказаться?
Бася, задыхаясь от негодования, ринулась на трибуну.
– Я думаю, товарищи, все вы испытываете то же чувство омерзения, какое испытала я, слушая этого горе-комсомольца…
Девчата-комсомолки бешено захлопали и закричали:
– Правильно!
Бася бурно продолжала:
– Да! Слова наши он все знает, – верно сказал председатель. Но то, что в этих словах для нас горит огнем, полно горячей крови, трепещет жизнью, – все это для него погасло, обескровилось, умерло. Стыдно было слушать, когда он мертвым своим языком повторял те слова, которые нам так дороги, так жизненно близки…
– Правильно! Правильно!
Ребята яро хлопали, еще пуще хлопали девчата и среди них Лелька.
– Какое бесстыдство! Какой цинизм! Вы заметили, как он подленько усмехался, когда произносил всем нам такие дорогие слова? Уж одним этим он себя не меньше обличил, чем своим враньем, что будто бы работал при мне так медленно, чтобы лак не попал на колодку… Товарищи! Сейчас у нас начинается великая стройка, рабочий класс должен напрячь все силы, себя не жалея, чтоб у нас установился социализм. А этот вот рвач дрожит только над одним, – как бы ему не повысили норму, как бы ему не потерять ни рублика из своих двухсот рублей в месяц… Двести рублей, а? Недурно, товарищи?
– Очень даже недурно! Мужской голос:
– А тебе завидно? Бася продолжала:
– И он недурно эти двести рублей умеет проживать. О, очень даже недурно! Я вам расскажу…
Под общий хохот она рассказала о своем посещении Васеньки на дому, о никелированной кровати и голубом атласном одеяле и о двух больших портретах на стене – Владимира Ленина и Валентина Эльского.
Хохот катался по всему залу. Царапкин сидел злой и красный. А Бася рассказывала, как он ей проповедывал, что сейчас задача сознательного рабочего – заводить себе получше обстановочку, получше кушать и покрасивее одеваться.
– Вот как он понимает призвание сознательного рабочего в наше грозное, трудное и радостное время! Посмотрите на эти лакированные ботинки и зеленые носочки: вот тебе высокая боевая цель, рабочий класс!
Долго комсомолия аплодировала, волновалась и переговаривалась. Потом взошел на трибуну худощавый парень с бледным лицом, – его Лелька мельком видала в ячейке. Говорил он глуховатым голосом, иногда не находя нужных слов. Брови были сдвинутые, а тонкие губы – энергичные и недобрые.
– Царапкин! Помнишь, четыре года назад мы вместе с тобою поступили на завод. И в одно время с тобой мы, значит, вступили и в комсомол. Получали мы тогда шестьдесят рублей в месяц. И тогда ты не думал, так сказать, о зеркальных там разных шкафах и другом барахле. Ты был дельный парень, активный, хорош ты был тогда и Васькой Царапкиным, не надо было тебе, понимашь, перекрашиваться в Валентина Эльского. Но я не об тебе хочу сейчас заострить вопрос. От тебя происходит определенное впечатление: ты стал предателем рабочего класса, с тобой нужно бороться и стараться тебя уничтожить. А вот, товарищи, в какую сторону я ударил свое внимание, когда слушал всю процедуру над этим здесь гражданином. Молодой парень, одинокий, – правильно ли, что он получает двести рублей в месяц?
Публика в недоумении задвигалась. Раздались голоса:
– Заливает!
– Заболтался! Видно, сам мало получает, вот и завидно стало.
– …я говорю и, значит, повторяю. Старый рабочий; у него, понимашь, семья в пять-шесть человек, не на что даже ребятам ботинки купить. Получает же столько, сколько молодой, одинокий. А этот вон на что денежки тратит, – на атласные одеяла да вон на энти туфельки лаковые.
Старый рабочий в грязной блузе, в какой был на работе, вскочил с места и заговорил взволнованно:
– Правильно, товарищ Ведерников! Больно много молодые получают, нельзя терпеть такого безобразия. Сокращать их надо в норму. Жарь, Афонька! Правильно!
Но другие возмутились и зароптали. Неслись выкрики:
– Об других легко говорить!
– Сам себе свое жалованье сократи!
– Сколько сам получаешь, ну-ка, скажи!
Ведерников, строго сдвинув брови, спокойно переждал шум.
– Сокращать вовсе незачем, но я совсем не к тому, – сказал он. – А вот я к чему, вот какая мне, так сказать, мысль пришла в голову. Мы, понимашь, все – рабочие, товарищи друг другу, работаем на одном заводе, на одном деле. А выходит, – одни, – как нищие, а другие (он указал на Царапкина) – в туфельках. Правильная ли это сортировка? Нет, неправильная. Ведь мы – коммунисты. «Коммун» по-латыни значит «общий». Вот бы и нужно, чтобы весь заработок всех рабочих на всех шел, не делить на каждого. А кому, понимашь, сколько надобно на дело, тому столько и выдавать. Чтобы всем ребятам ботинки были, а чтоб у Царапкина зеркального, значит, шкафа не было.
Лелька в восхищении крикнула:
– Ой, ч-черт! Здорово!
Ей очень понравилось это предложение. И вся комсомолия всколыхнулась. В то время идея подобных производственных коммун была еще внове, в газетах об ней не писали, и она в тот вечер самостоятельно зачалась в голове Афанасия Ведерникова.
Заговорили за и против, заволновались. Председатель спохватился и сказал:
– Товарищи! Этот вопрос очень важный, надобно заострить его по всей норме. Но только сейчас мы больно далеко заедем с этим в сторону. Давайте поворотимся к делу… Никто больше не может сказать о деле?
Судья, сидевший направо от председателя, сказал:
– У меня вопрос. Кто ваши родители? Царапкин ответил:
– Отец умер, до самой смерти работал в трубном отделении. Мать галошница.
Из публики сомнительно спросили:
– А не из чиновников ли? Председатель обратился к обвиняемому:
– Ну, Царапкин, твое теперь слово. Фигурируй как можешь! Царапкин встал, откашлялся и торжественно сказал:
– Сознаю свою вину и говорю это открыто, по-большевистски. Признаюсь, что нарочно замедлял работу при наблюдении хронометражистки. Я понял свою ошибку и даю слово честного комсомольца раз навсегда исправиться! И если мне будет осуждение, признаю, что я его заслужил.