Лев Гинзбург - Избранное
Рассказ о Парцифале...
"Даль свободного романа" (воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулой) беспредельна.
Пройти огромное расстояние по всем его строчкам, от главы к главе, нелегко: в длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг...
Смысл "Парцифаля" открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что "Вольфрам фон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии". Я все теснее связывал его образ с картиной времени, "помещал" его в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог не слышать о них, не знать... Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь - с домами, храмами, бесценными библиотеками... В горло друг другу вцепились Вольфы и Гогенштауфены... Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена...
Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в "Парцифале" появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные, известным всем события. Эшенбах понял: мир настолько насыщен преступлениями, что им противостоять может разве что святость. В своей не слишком богатой внешними событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимый великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь...
Есть книги как заброшенные, заросшие травою могилы. Не то чтобы они были плохо или подло написаны: нет, просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивалась сквозь то, что они сконструировали.
Эшенбах остался. Не вне своего произведения, а в нем.
Впрочем, "Вольфрам фон Эшенбах, в своих прославленных стихах воспевший наших женщин милых", просил не считать его "Парцифаля" книгой ("Нет, не книгу я пишу..."). Почему же?
Все, что узнал я и постиг,
Я не заимствовал из книг.
Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга, - ЖИЗНЬ.
Родину Вольфрама фон Эшенбаха, городок Вольфрамc Эшенбах, что в переводе означает "Эшенбах Вольфрама", мне, к сожалению, удалось увидеть уже после завершения работы над "Парцифалем".
...Ехал из Ансбаха по мягкому мокрому шоссе. Вдоль обочин то возникали, то исчезали голые деревья с темно-зелеными стволами, редковатый смешанный лес. Здесь-то и была, наверно, та непроходимая чаща, которую Эшенбах вообразил заколдованным Бразельянским лесом. Здесь стоял замок Мунсальвеш, здесь хранился Грааль.
Великая, как само мироздание, средневековая поэма рождалась в баварской глуши, среди крохотных, открыточных, музейных домишек: над ними торчал шпиль церкви...
Улицы носили имена Вальтера фон дер Фогельвейде, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского, Тангейзера... Были здесь также улица Ситуреля, улица Лоэнгрина, улица Парцифаля.
Гнездо миннезингеров...
На площади Вольфрама фон Эшенбаха перед церковью Святой богоматери возвышался памятник, установленный в XIX веке: препоясанный мечом Вольфрам худощавый, поджарый, с острым насмешливым лицом - держит в руке лютню.
Я зашел в церковь.
На стене над каменной могильной плитой я прочел:
"Остановись, странник! Ты находишься рядом с останками великого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, которые здесь, в подземелье церкви Святой богоматери, ждут часа воскрешения из мертвых..."
3
Работа строилась так: сначала я читал подлинник, затем - то же место в прозаическом переводе Штафеля, после этого - все варианты стихотворных немецких переводов (чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки), наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых.
Перевод первых двух глав занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь, по возможности, не перебивать ритм (четырехстопный ямб), игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам углубиться в даль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и "идти", читать дальше.
Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство: уж не слишком ли гладко звучит стих, нет ли недостоверности в том, что, переводя "Парцифаля", я "пишу Онегина размером", - обстоятельство, которое даже Лермонтова смущало в "Тамбовской казначейше"? И хотя все немецкие переводчики "Парцифаля" на современный язык брали именно этот размер и ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, надо было искать способы усложнения ритма, сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место.
Место между тем не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцифаля - Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями. Мне слышался чеканный классический ямб: как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв?.. Не следовало забывать, что я имею все же дело с воинами, рыцарями, а не просто с носителями авторских идей.
Теперь сошлись они друг с другом.
Колотят копья по кольчугам.
И древки яростно трещат.
И щепки на землю летят.
Ах, в беспощадной этой рубке
Ждать не приходится уступки...
Надо только представить себе эту картину: ослепительное сверкание до блеска начищенной стали! В стальных панцирях - люди, в сталь - вплоть до ушей - закованные кони. Громыхают, падая наземь, стальные фигуры.
В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, Любовь и Воинское Рвенье, и нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увядал в косноязычии, сникал от усталости. Была и другая опасность: чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот.
Хотелось передать страсть, негу, томленье, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда "на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белакана", и в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, "черными".
В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на "неверных", а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Вольфрам фон Эшенбах в своем романе говорил: "Что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно?" Языческие монархи, языческие рыцари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением...
Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собою родством. Линии множества жизней замкнутся на Парцифале, и от него же потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни. И к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав...
Между тем к третьей главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий.
Под напором сюжетной сумятицы стал наконец постепенно меняться размер, стих все более приближался к своему естеству:
...Итак, он с королем расстался
И в комнате один остался,
Сказав послушной свите:
"Я спать ложусь. Вы тоже спите..."
Но тут пажи вбежали
И обувь с ног его усталых сняли.
И, скинув облаченье,
Он чует облегченье.
Это, пожалуй, наиболее точный ритмический "портрет" подлинника, созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста.
Теперь я располагал возможностью время от времени (желательно как можно чаще) демонстрировать читателю это первородное звучание, "вписывать" его в условный размер перевода, подобно тому как "встраивают" куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли.
Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации: "Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан". А вот уж совсем почти раек:
Скажу вам без обману,
Его женой я стану.
Лишь он моя отрада
И нам другого короля не надо!..
Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого "Парцифаль" был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот.
Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что "Парцифаль", при всем своем мистицизме, имеет под собой прочную народную, жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях, - например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где как по мановению волшебной палочки происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебном Клингсоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие.
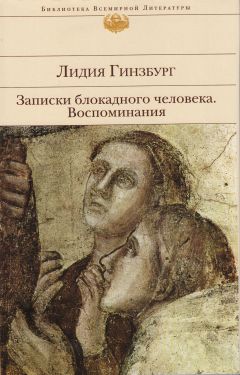



![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)