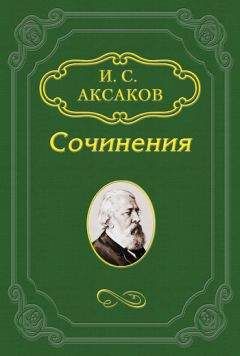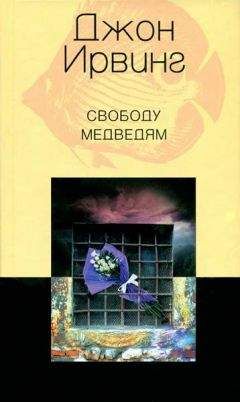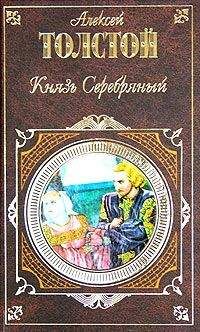Максим Горький - Том 8. Жизнь ненужного человека. Исповедь. Лето
И когда он так говорит, то мне кажется, что глаза его видят вдали великий свет, вовлекает он меня в свой круг, и все забывают обо мне, а на него смотрят радостно.
На первых порах это обижало меня; думал я, что плохо принимают мои мысли и никто не хочет углубиться в них так охотно, как в мысли Михайлы.
Бывало, уйду незаметно от них, сяду где-нибудь в угол и тихонько беседую с гордостью своей.
Подружился я со школьниками; по праздникам окружали они меня и дядю Петра, как воробьи снопы хлеба, он им что-нибудь мастерит, а меня дети расспрашивают о Киеве, Москве, обо всём, что видел. Но часто, бывало, вдруг кто-нибудь из них такое спросит, что я только глазами хлопаю, удивлённый.
Был там Федя Сачков — тихий и серьёзный ребёнок. Однажды иду я с ним лесом, говорю ему о Христе, и вдруг он высказывает, солидно таково:
— Не догадался Христос на всю жизнь маленьким остаться, в моих, примерно, летах! Остался бы так да и жил, обличал бы богатых, помогал бедным — и не распяли бы его, потому — маленький! Пожалели бы! А так, как он сделал, — будто и не было его…
Лет одиннадцать Феде, личико у него было бледное и прозрачное, а глаза недоверчивые.
Другой — Марк Лобов, старшего класса ученик, худой, вихрастый и острый парнишка, был великий озорник и всеобщий гонитель: насвистывает тихонько и щиплет, колотит, толкает ребят, словно молодой подпасок овец. Как-то, вижу я, донимает он одного смирного мальчика, и уже скоро заплачет мальчик.
— Марк, — говорю я, — а если он тебе сдачи даст?
Взглянул на меня этот Марк и, усмехаясь, отвечает:
— Не даст! Он смирный, добрый он…
— Так зачем же ты его обижаешь?
— Да так, — говорит.
И, посвистев, прибавил:
— Смирный он!
— Ну, так что? — спрашиваю.
— А для чего же смирные-то живут?
Сказал он это удивительно спокойно — видимо, человек уже в двенадцать лет уверен был, что смирные люди даны для обид.
Каждый из детей по-своему мудрец, всё больше они занимают меня, всё чаще я думаю о их судьбе. Чем заслужили дети тяжёлую обидную жизнь, которая их ждёт?
Вспоминаю Христю и сына моего, вспоминаю — и возникает в душе злая мысль:
«Не потому ли запрещаете вы женщине свободно родить детей, что боитесь, как бы не родился некто опасный и враждебный вам? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшен вам свободный сын её, не связанный с вами никакими узами? Воспитывая и обучая делу жизни своих детей, вы имеете время и право ослеплять их, но боитесь, что ничей ребёнок, растущий в стороне от надзора вашего, — вырастет непримиримым вам врагом!»
Был на заводе и такой ничей человек — звали его Стёпа, — чёрный, как жук, рябой, без бровей, с прищуренными глазами, ловкий на все руки, весёлый паренёк.
Знакомство наше началось с того, что однажды в праздник подошёл он ко мне и спрашивает:
— Монах! Ты, слышь, незаконный? Ну вот, и я тоже!
И пошёл со мной рядом. Было ему лет пятнадцать, уже школу кончил и на заводе работал. Идёт, прищурив глаза, и расспрашивает:
— Велика земля-то?
Объяснил, как умел.
— А тебе, — мол, — на что?
— Надо! Чего я на одном месте буду торчать? Не дерево. Вот как научусь слесарить — пойду в Россию, в Москву и — ещё куда там? — везде пойду!
Говорит он так, как будто грозится кому-то:
«Я — приду!»
Стал я после этой встречи наблюдать за ним; вижу — мальчика тянет к серьёзному: где Михайловы товарищи ведут свой разговор, там и он трётся, слушает и щурит глаза, как бы прицеливаясь, куда себя направить.
И озорничает особенно: старается что-нибудь испортить тем людям, которые к начальству стоят ближе, — инструмент спрячет, сломает что-нибудь, песку подсыпает в станки.
Однажды, во время обеда, говорит мне:
— Скучно, монах, здесь!
— Почему?
— Не знаю. Жидковато люди живут! Работа да забота! Скорее бы научиться мне — отчалил бы я отсюда прочь!
И когда он говорил о будущем походе своём, то глаза его, открываясь, смело глядели вперёд, а вид он имел завоевателя, который ни во что, кроме своей силы, не верит. Нравилось мне это существо, и в речах его чувствовал я зрелость.
«Этот — не пропадёт!» — думаю, бывало, поглядывая на него. И душа заноет о сынишке моём: каков он, чем будет на земле?
Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и всё более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окутает оно меня и странно приподнимет. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело моё, а я их душа и воля, на этот час. И речь моя — их голос. Бывало, что сам живёшь как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его хорошо тебе, а минет время, замолкнет он, и — снова ты один, для себя.
Вспоминаю былое единение с богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил и от себя, но как бы вырастал, возвышался над собою, и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за моё одиночество.
Догадка эта пришла ко мне бесплотной и неясной: чувствую, что растёт в душе новое зерно, но понять его не могу; только замечаю, что влечёт меня к людям всё более настойчиво.
В те дни работал я на заводе за сорок копеек подённо, таскал на плечах и возил тачкой разные тяжести — чугун, шлак, кирпич — и ненавидел это адово место со всей его грязью, рёвом, гомоном и мучительной телу жарой.
Вцепился завод в землю, придавил её и, ненасытно алчный, сосёт дни и ночи, задыхаясь от жадности, воет, выплёвывая из раскалённых пастей огненную кровь земли. Остынет она, почернеет, — он снова плавит, гудит, гремит, расплющивая красное железо, брызжет искрами и, весь вздрагивая, тянет длинные живые полосы, словно жилы из тела земного.
Вижу в этой дикой работе нечто страшное, доведённое до безумия. Воющее чудовище, опустошая недра земли, копает пропасть под собой и, зная, что когда-то провалится в неё, озлобленно визжит тысячью голосов:
— Скорей, скорей, скорей!
В огне и громе, в дожде огненных искр работают почерневшие люди, кажется, что нет им места здесь, ибо всё вокруг грозит испепелить пламенной смертью, задавить тяжким железом; всё оглушает и слепит, сушит кровь нестерпимая жара, а они спокойно делают своё дело, возятся хозяйски уверенно, как черти в аду, ничего не боясь, всё зная.
Ворочают крепкими руками малые рычаги, и всюду — вокруг людей, над головами у них — покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромных машин, пережёвывая железо… Трудно понять, чей ум, чья воля главенствуют здесь! Иной раз кажется, что человек взнуздал завод и правит им, как желает, а иногда видишь, что и люди и весь завод повинуются дьяволу, а он торжественно и пакостно хохочет, видя бессмыслицу тяжкой возни, руководимой жадностью.
Говорят рабочие друг другу:
— Пора на работу вставать, эй!
Но люди на ней стоят или она их гнетёт и давит — не понимаю! Тяжела работа и властна, но остёр и ловок человеческий разум!
Порою в этом адском шуме и возне машин вдруг победительно и беззаботно вспыхнет весёлая песня, — улыбаюсь я в душе, вспоминая Иванушку-дурачка на ките по дороге в небеса за чудесной жар-птицей.
Народ на заводе — по недугу мне: всё этакие резкие люди, смелые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, бесстрашный народ. Не похож он на странников и холопов земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадёжной печалью, мелкой жуликоватостью в делах с богом и промеж себя.
Эти люди в мыслях дерзкие, и хотя озлоблены каторжным трудом ссорятся, даже дерутся друг с другом, — но ежели начальство нарушает справедливость, все они встают против его, почти как один.
А те парни, которые к Михайле ходят, всегда впереди, говорят громче всех и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народе не думал, то и людей не замечал, а теперь смотрю на них и всё хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мной отдельно стоял. И добиваюсь этого и — нет: речи разные, и у каждого своё лицо, но вера у всех одна и намерение едино, — не торопясь, но дружно и усердно строят они нечто.
Каждый из них среди людей — светел и приятен, как поляна в густом лесу для заплутавшегося; каждый тянет к себе рабочих, которые посмышлёнее, и все Михайловы ребята в одном плане держатся, образуя на заводе некий духовный круг и костёр светло горящих мыслей.
Сначала — неласково приняли меня, покрикивают, посмеиваются:
— Эй ты, рыжая муха! Священный клоп! Дармоед! Захребетник!
Иной раз и толкнёт кто-нибудь, но этого я терпеть не мог и в таких случаях кулака не жалел. Но хотя людям сила и нравится, а кулаком ни уважения, ни внимания к себе не выколотишь, и быть бы мне сильно битому, если б в одну из моих ссор не вмешался Михайлов дружок Гаврила Костин, молодой литейщик, весьма красивый парень и очень заметный на заводе.