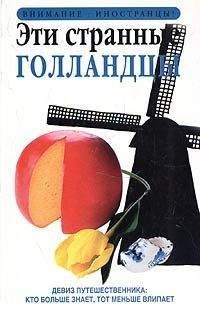Леонид Леонов - Скутаревский
Луна стояла в чисто выметенном небе, и еще какая-то вострая звезденка делила с нею власть в этой ночи. Было очень удивительно, что в первый раз за последние двадцать лет вспомнил о ней, о луне, об этом романтическом придатке. Луна, которою обычно начинаются всякие истории, у него замыкала полностью завершенный круг. Какие-то незрелые, неполноценные образы засоряли его сознание, и то ли нестерпимое ледяное сиянье, то ли малокровие мозга порождало их. После двух бессонных ночей, пока настойчиво и порою почти на ощупь отыскивал свою ошибку, организм противился сну. Разбеги этих образов лежали где-то раньше, и вдруг начинало вериться, что о Петрыгине, например, он догадывался давно; всегда, даже в самом ничтожном противоречии сочился из Петра Евграфовича какой-то ядовитый гормон, достаточный, чтобы и эпохальные граниты разъесть. Только при том ироническом отношении к понятию классовой борьбы, которое в целом отличало всю прослойку Скутаревского, даже история с сибирской станцией не пробудила его. Теперь же, наедине с собой и в свете краткого Женина известия, в особом значении представали и мохнатая личность Штруфа, и вселенские махинации шурина. Он вспомнил, как однажды при отъезде за границу Петр Евграфович сунул ему письмо в карман и равнодушно попросил бросить его в ящик в Берлине; фамилия адресата была русская. Он вспомнил и покраснел. А темная их игра в связи с событиями его личной жизни!.. в конце концов его, заболевшего нежностью к этой девчонке, они обыгрывали, как воры подгулявшего фрайера, опоенного марафетом. И тут почему-то всплывал в памяти портрет чужой мамы, залитый ситро и загаженный селедочным объедком. Тогда, дразнясь и негодуя, он задавал себе вопрос, как повел бы он себя, если бы еще раньше, до петрыгинского ареста, обобщил в целое уйму мелких, мимолетных улик. Молчал бы он, деля ответственность за дело, которое сам почитал омерзительным, или...
...он даже видел этого следователя. У него был крупный, чувственный нос и чернявые усики под ним, точно подмазанные сажей; допустимо, что он был тенью того, которого встретил на лестнице у Арсения в день несчастья. Должно быть, понимал и следователь, кто именно сидит перед ним, и потому держался необычного тона вынужденной и рассеянной вежливости. Он был весь подобранный, без задоринки, и, хотя сидел за глухим письменным бюро, Скутаревский отчетливо видел его синие бриджи и полулаковые, в обтяжку, сапоги. Разговор происходил скорее целыми понятиями, чем словами, и потому хрупкую ткань этого никогда не состоявшегося разговора невозможно было переложить в слишком огрубленные слова.
"Итак... вы были уверены в успехе вашего эксперимента?"
"Да, это легко, но мы не умеем".
"Вы знали, какое значение это может иметь для народного хозяйства?"
"В гораздо большей степени, чем можете предположить даже вы".
"Но опыт, оправданный в ряде предварительных испытаний, все-таки не удался?"
"Да. По уверению Ходакова, на контрольной установке развился некоторый крутящий момент, но при той мощности, какую мы имели на отправителыюй станции, ходаковское наблюдение... вернее, результат его я считаю недостаточным".
Следовал как бы провал не то памяти, не то воображенья, но зато дальше все шло с полной ясностью:
"Итак, регистрирующих приборов не было. А Петрыгин знал схему вашего аппарата?"
"Не допускаю. В тетрадке, которая пропадала, заключался первый, отвергнутый впоследствии вариант. Выводы и формулы я записываю вкратце: у меня хорошая память".
"Но крупный специалист сумел бы догадаться о путях, которыми вы шли?"
"Но они же были неверны!"
"Это безразлично".
"В таком случае - да".
Опять шел перерыв, и связь нарушалась. Воображаемая комната с глухими дверьми, коврик в углу, закапанная чернилами бюварная бумага - все растворялось в кислотном свете луны. В поле зрения оставались только чужие пальцы с выпуклыми, коротко остриженными ногтями; они бесшумно барабанили в подоконник, и потом в развитие всего этого возникал завершающий вопрос, уже издалека, и этот голос следователя - был его собственный голос:
"Но почему все-таки опыт окончился безуспешно?"
Потом таяла и рука, и тот же равномерный мутный раствор луны заливал мысленное пространство. Жизнь, придававшая движение ему, была такова: кошка, крадучись, пересекла лунное поле за окном, - она была худее своей тени. У черной опушки парка она сделала крутой прыжок, и тотчас же тишину пронзил ее ранящий вопль. Ей ответил другой, точно такой же; ее взъерошенный любовник был размером с песца. Тени сблизились, Скутаревский отвернулся. И в ту же самую минуту вошла Женя; старательно, всем телом, она притворила за собой дверь. Он рассердился бы, если бы она неоднократно не предваряла возможности своего прихода букетиком подснежников; ей приходилось долго блуждать за ними по парку, и в то утро он нашел у своей кровати всего четыре цветка в скоробленном кленовом листе. Тот же, что и тогда, на аллее, полной солнечных пятен и ручейков, был смысл ее появления, оттого и диалог их остался тем же самым:
- Вы ко мне?
- Вот, пришла. Не спится.
Он усмехнулся зло:
- Что ж, ж а л к о стало?..
- Нет, просто так. - И в сторону глядели ее чуть озабоченные таким приемом глаза.
- Ну, садитесь, и давайте говорить. - Они сели друг против друга, и потому, что это очень походило на прием у врача, Скутаревский спросил басовито, приглаживая усы: - На что жалуетесь?
Она засмеялась, и смех звучал подбито; ей не понравилась его шутка.
- Расскажите... что вы хотели и что вам не удалось.
- Я не умею.
Она все узнала; уже упаковывали наиболее ценные приборы, и то, что оставалось посреди бывшего машинного зала, более походило на груду металлического трупья после Пантагрюэлева побоища. Именно жалость и неясное сознание своей вины заставляли ее преувеличивать степень поражения Скутаревского; даже и теперь ценность некоторых его побочных достижений никто не посмел бы подвергать сомнениям. Но ей потребовалось собрать все скудное женское великодушие, чтоб притащить ему в каморку свой простенький, розовый еще, провинциальный венок победы. Во всяком случае, отдать себя ей было легче, чем дать веру в конечное осуществление его замыслов. И теперь, когда думала о нем, он представал в ее воображении не прежним, командармом электронов, видным за тысячи километров, а одиноким сгорбленным человеком, который посреди страшной ночи держит на ладони светляка с мучительным бессилием разгадать, п о ч е м у это?
Скутаревский смотрел на нее пристально и строго; она заволновалась. Следовало немедленно и любым образом объяснить свой приход сюда.
- Мне кажется... вы можете считать, что я люблю вас. - И сидела, вся дрожа и покорно сложив руки на коленях.
Он продолжал молчать, но тень какой-то беспощадной насмешливости прошла в его лице. Она повторила еще тревожнее:
- Если вы хотите... то живите со мной!
Скутаревский отвел глаза к окну. Было тихо. Глухая ночь благоприятствовала преступленьям, и даже Джелладалеев не узнал бы ни о чем. Непроизвольная гримаска скользнула в нем и замерла где-то в пальцах.
- Вы дитенок, Женя, - засмеялся он, чуть отодвигаясь в сторону. - И не грызите ногтей... знаете, я не создан для лунных происшествий. Я старый, равнодушный человек, и никаким стихотворением не прошибить меня. Он задержался, сцарапывая какое-то пятнышко с колена. - Поэзию я всегда считал забавой лживых, бородатых младенцев. Детство мое не благоухало. В жизни я шел слепой, - так живут лошади в шахтах. Я работал, изобретал всякие штучки, но жизнь я прожил наедине. Жена мне не мешала в этом. Сын? Это даже не оплошность, это неряшливость... всякий отец, черт возьми, имеет право на такое жестокое слово! Я холостяк-с, я даже цветов гнушался, и надо признать, вы родились из меня в тот самый миг, когда во мне умер я прежний. Знаете, новые идеи никогда не поселяются на падали: они как полевые цветы...
Ее трясло раскаянье; она сказала сломанным голосом:
- Я не понимаю, что вы говорите...
Его нижняя губа брезгливо выпятилась:
- Проще - значит площе. Я не имею права на вас, дорогой товарищ. Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, по-видимому, и впредь. Наверно, я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Черимов, если ухитрится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах и получите насморк... Я приказываю вам купить новые калоши! - И устремил на нее длинный палец. - Фагот мой полгода провисит в комиссионном магазине, потом его уронят...
- Это неправда, неправда!.. - закричала она, хватая его руку.
- Вот, знаитя, и все, - заключил он, нарочно исковеркав слово. - Мой вам совет, товарищ, сойдитесь с кем-нибудь еще.
Некоторое время она еще сидела, склоняясь на сторону со стула. Так сидят убитые - перед фотоаппаратом судебного врача. Спазма жгла ей горло. Вдруг, как бы вспомнив что-то, она быстро поднялась и пошла в глубь комнаты, но внезапно повернулась и ринулась в дверь. Лестница в верхний этаж, где ей отвели кровать и угол, приходилась над самой его койкой: ее ступени служили потолком в этой тесной, гробовой нише. Шаги звучали, срываясь, через ступеньку, похожие на всхлипы; они были такие, точно комьями кидали на него плотную, могильную глину. И верно, маленький осколок старой, рыжей шпаклевки свалился ему на колено. Скутаревский лег поверх одеяла и лежал, следя, как ореольно светится в луне его ботинок. Выпихнуть Женю из комнаты оказалось много легче, чем из памяти, но он-то знал, что поступил правильно. И он не того боялся, что завтра же целая сотня лицемерных и ревнивых глоток гаркнет хором: "Вот он, глядите, палач, который взял юность Жени!" - о том, что произошло в его отсутствие между Женей и Черимовым, он догадался сразу! - он просто страшился увидеть себя еще раз, уже иного, в ее расширенных, обезумевших зрачках.