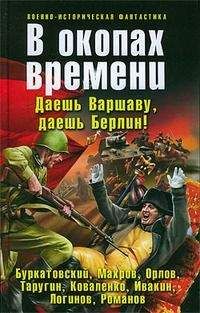Иван Бунин - Том 5. Рассказы 1917-1930
Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.
Он засмеялся:
— Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспременно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню… А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил, — погостевать, попировать у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется — все тузья, бояре, угошшали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся, — ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! — опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!
— Это что же за стремянная такая? — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой.
— Вот и вышел Иван, — сказал Яков. — Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблом глаза колят, кажный стаканчик считают…
19 июня.
Погоду сглазили, нынче весь день льет.
Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный совсем оранжевый. В небо над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду, — так сладко успокоилось все к полночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.
После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой, — трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:
— Бона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила.
— Какая Аниска?
— А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору — и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.
— Умильно-то умильно, — сказали мы, — а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше, — во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.
— Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов теперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет — хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толстолетнее древо повалило…
— Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы.
— А как же быть-то? — возразил он. — Убило — значит, не подвертывайся. Що, значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра…
Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:
— У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело — стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж я, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девчонка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их — баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.
— Значит, любишь это дело? — пошутили мы.
Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.
— Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь. При старости при такой не требуют никакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать… Жанись да жанись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе…
— Постой, как убили? Кто убил?
Он мотнул головой и засмеялся:
— Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, аредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал — приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились так-то в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по чем попадя глушить… Так до смерти и засекли. Ну, а я в тую пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого и вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и испрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят». — «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примру, хорошая голова, — дескать, я — пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались наране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего… Понятно, обыкла шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу…
— Так ты теперь и живешь один? — спросили мы.
— Так вот и живу, — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. — Так и живу, бояре хорошие, — сказал он, легонько вздыхая. — Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.
— Ну, а дети твои? Они дома живут?
— Дети у меня никуда, — сказал он. — Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница, сапожник… Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда — сейчас к отцу. «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мочи…
21 июня.
И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.
Яков вчера отсыпался на печке в людской, — «прозяб маленько»! Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой… Яков, конечно, не унывает:
— Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!
И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.
— Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается… А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу — мать так и ахнула…