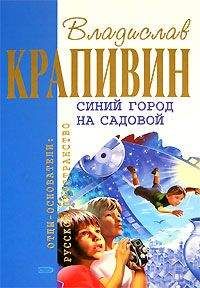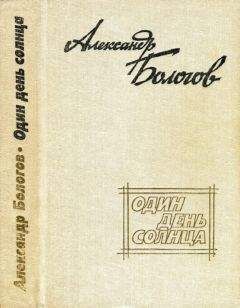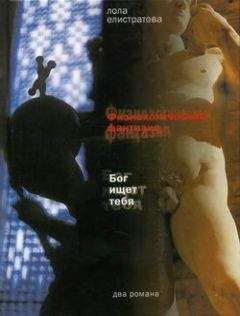Александр Чехов - Тайны живописи
Т а н я. Человек самовыражается, экспериментирует. Что в этом плохого? Он ищет новые формы, он пытается раскрыть свой внутренний мир, заглянуть в самую глубину.
С е р г е й. Плохого -- ничего. Я не осуждаю.
Т а н я. Ты ставишь диагноз. Как заправский врач.
С е р г е й. Извини. Не хотел обидеть твоего знакомого художника. Просто все это самокопание...
Т а н я. Что?
С е р г е й. ...Не то это. Человек сам в себе с ума сходит, а мы должны за этим наблюдать.
Т а н я. Иногда наблюдать за этим бывает очень интересно. Примеров тому -- тысячи.
С е р г е й. Не спорю, я не совсем это хотел сказать. Просто сидит вот этот мальчик у себя дома, делать ему нечего, женщины его не любят, мужики, видимо, тоже, а потому что сам любить не умеет, вот он и начинает сам в себе копаться. Все равно, что онанизмом заниматься.
Т а н я. Ты не справедлив. Ты же его совсем не знаешь.
С е р г е й. Возможно, я просто по картине сужу. Эта картина -клиника. Сам образ клинический. Волк, да еще с горящими глазами -- символ зла, темных сил. Плюс поза "верхом", что подразумевает секс. Да еще фаллосы. Он явно что-то недополучил в детстве и недовзял в юности. Вот и изводит себя. И краски заодно.
Т а н я (смеясь). Критик! Психолог! Знаешь что, психолог, налей-ка чай себе сам!
Вадим, сидящий на первом ряду, аплодирует.
12.
Вечером была тишина. Удивительным образом не было слышно ни соседей, ни улицу. Даже сверчки стихли. Остались только шорохи, дыхание, пульс и скрип половиц.
-- Хорошо у тебя здесь, -- сказала она, оглядываясь вокруг, -- Уютно. Это твоя печатная машинка? Как здорово! Я в детстве мечтала о печатной машинке. Столько кнопок! Мне так нравилось нажимать на кнопки.
Сегодня она была другая -- пышные волосы собраны назад и перетянуты резинкой, вместо любимого оранжевого платья -- белая шелковая блузка и джинсовые, короткие шорты. Почти без косметики, она выглядела строже, невиннее, моложе, словно школьница, всю жизнь просидевшая за учебниками, только загар, покрасивший медными оттенками обнаженные руки и шелковистую кожу бедер придавал ей налет южной распутности.
-- Ты в детстве, наверное, облазила все заборы.
-- Верно. Как ты догадался?
-- Есть в тебе что-то мальчишеское. Озорное такое, ребяческое.
-- Может быть... -- она подняла на него свои малахитовые глаза и улыбнулась кончиками губ, -- Тебе это нравится?
-- Да, -- осторожно, словно боясь обжечься, дотрагиваясь кончиками пальцев до ее талии, ответил он, -- ты мне очень нравишься.
Замирая, затаив дыхание, он уходил в свои пальцы, чувствуя под ними грубую ткань, крупные швы, пустые петли для ремня, чуть выше -- мягкий, скользящий, переливчатый, тающий шелк, сквозь который ясно ощущалось ее тепло, гладкость и упругость кожи, чуть ниже... Неуверенно он опустил руки ниже, думая про себя, что на этом сейчас все закончится, но она не отстранилась, не перехватила его настырные, наглые ладони-пауки, дав им возможность пережить, дрожа от возбуждения, все аккуратные изгибы юного гибкого девичьего тела.
-- Мишка! -- ее руки мягко обвили его шею, -- Спасибо тебе.
-- За что?
-- За то, что ты есть... -- на секунду она опустила глаза, -Спасибо... Ты знаешь, мне когда пятнадцать лет было, меня один парень изнасиловал. Ходил за мной, ухаживал, цветы дарил, а потом изнасиловал. Потом на коленях прощенья просил, а я не простила. И в суд не подала. Пусть живет. Потом долго с парнями не могла. Не верила никому. Встречалась с одним, а он меня предал, ушел к другой. Спасибо тебе. Ты... замечательный. Мне с тобой хорошо. Уютно.
Они смотрели друг на друга, она готова была заплакать, он, осмелев, тянулся к ее губам.
-- Леночка! Ты такая... Мне иногда кажется, что я тебя придумал.
И когда объятия стали крепкими, поцелуи страстными, движенья решительными, и ничего уже нельзя было остановить, она расплакалась, наконец, тихо, почти беззвучно, незаметно для него и вдохнула: "Я люблю тебя!"...
Утром они стояли на остановке, в тени металлической крыши, вдыхая свежесть прохладного еще, еще тихого, еще безлюдного утра.
-- Ты сегодня во сколько освобождаешься? -- спросил Миша.
-- Час в три, а что?
-- Хочешь, я тебе ключ оставлю? Чего тебе тетю-то стеснять? Приходи ко мне.
-- Ладно, -- ключ утонул в ее пальцах, затем исчез безвозвратно в кармане шорт. Утром она не прятала волосы, и они снова, как всегда, падали на плечи причудливым золотым водопадом. -- Я приду.
Потом она сказала: "Я позвоню тебе сегодня на работу, хорошо?", быстро, легко, словно бабочка, вспорхнув в подъехавший старый, дребезжащий ЛИАЗ, Миша проводил взглядом уходящий автобус и остался стоять там, где был, задумчивый, боявшийся поверить в собственное счастье. Солнце поднималось в зенит, в полдень, люди просыпались, потягивались сладко, зевали, одевались, пили чай или кофе, чистили зубы, брились или причесывались, собирали портфели, сумки и рюкзаки, шли на работу, на пляж или по магазинам, заполняя пестрым разноцветием рубашек и платьев остановки, автобусы и метро, тени их становились все короче, воздух постепенно прогревался.
13.
В обед он вышел прогуляться. Нагретый воздух медленно перемещался с запада на восток, размеренно колыхая зеленые кроны, в небе висели несколько кучевых облаков, предвестники, как говорили, будущего циклона.
Он прошел по шумному, загазованному виадуку, полному машин, на Должнаскую, затем свернул на бульвар Мира -- когда-то это был канал, в петербургском стиле окружающий водяным рвом Нижегородскую ярмарку, а сейчас просто бульвар -- пустой тротуар, несколько деревьев, газон, кусты и флегматичная от старости афганская борзая, спущенная хозяином с поводка. На тротуаре были нарисованы белой краской цифры и черточки -- по утрам здесь наматывали километры ученики из близлежащей школы. Он прошел дальше, пересек улицу, поднялся по лестнице. На площади Ленина, у центральной гостиницы, почти у самых ног вождя пролетариата рабочие ставили железный решетчатый забор -- приехал московский цирк-шапито. Уже стоял белый вагончик с веселым рыжим клоуном на борту, нелепо и карикатурно нарисованным, с надписями "ЦИРК" и "ТЕАТР ЗВЕРЕЙ", уже стояла маленькая будка с афишей, в которой через пару недель будут продавать билеты, но не было еще детей и родителей, а также музыки, воздушных шаров и мороженого -- случайные прохожие редко проскакивали мимо, бросая быстрые равнодушные взгляды. Он прошел вдоль забора и оглянулся -- клоун на вагоне улыбался непомерно широкой, мультяшной улыбкой, но большие, подведенные тушью глаза его были грустны. Или ему это показалось?
Затем он вышел к остановке и скверу с книжным базаром -- тот не блистал разнообразием, лакированные детективы, фантастика, книги по экстрасенсорике в суперобложках, модные глянцевые журналы с портретами полуголых красавиц, больше ничего, да и самих торговцев, видимо из-за жары, было раз-два, и обчелся. Дальше была набережная с плавучим рестораном "Летучий голландец" -здесь ветер дул сильнее, а близость реки создавала хоть какую-то иллюзию прохлады. Вода в Оке текла мутная, какого-то зелено-коричневого цвета, в ней плавали островки пены и мелкий мусор. Когда-то здесь не было города, и река была чистая, почти как горный ручей, воду можно было пить, а рыбу ловить руками, потом, пару тысяч лет назад, какой-то умник из местного угорского племени соорудил здесь первый деревянный причал, а тысячу лет назад с юго-запада пришли славяне. Хорошо организованные и вооруженные, закаленные в боях с кочевниками, они без труда потеснили местное население и, спустя два столетия, основали город -- несколько домов, окруженных частоколом бревен, восточный, самый дальний пограничный форпост Владимирского княжества. Здесь, на этом месте, казалось, кончалась цивилизация, вокруг и дальше на восток, за высоким забором были только леса на тысячи верст, темные хвойные к северу и смешанные к югу, с обилием зверья и редкими городищами диковатых язычников. Городок был настолько маленьким, далеким, тихим и никому особенно не нужным, что монгольские орды Батыя прошли мимо, не заметив его. Годы шли, Батый дошел да Адриатики, вернулся назад и умер, Орда захватив и разрушив все, что оказалось в пределах досягаемости, угомонилась и принялась торговать -- по Волге из низовьев и через Каспий из Персии поплыли купцы -город в дни их нашествия становился похожим на мифический Вавилон, они раскладывали товар прямо на пристани, кричали шумно, многоголосо, разноязыко, суетясь, торгуясь, продавали всякие заморские диковинности, меняли у местных ковры на меха и перец на золото, затем быстро грузились на свои маленькие суда и уплывали, прикрывшись щитами и копьями от речных пиратов, город же быстро богател, рос, люди вырубили леса вокруг, отстроили каменный Кремль, затем, когда Орда канула в лету, и граница отодвинулась далеко за Урал, город фривольно раскинулся в ширь, по обоим берегам Оки, строя мосты, прокладывая дороги, засыпая болота и овраги. А вода в реке постепенно мутнела и засорялась, и рыбы становилось все меньше. Что-то люди, конечно, потеряли, что-то приобрели. Как всегда...