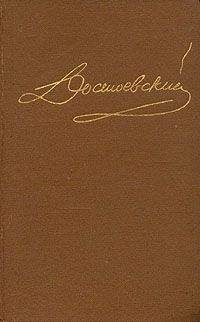Андрей Скалон - Матрос Казаркин
- Тут ничего удивительного. У русских тоже есть дети. У них и родители есть.
- Какая невеселая шутка у вас, Клара!
- Почему я должна быть веселой?
- Вы, наверное, сердитесь на меня за то, что я часто бываю здесь?
- Нет, я не сержусь, но сейчас ему надо на перевязку. У него в костях металлические стержни, некоторые ему будут вынимать сегодня.
Казаркин уловил неприятный смысл разговора, шедшего по-английски, через интонацию и мимику, настроение у него упало. Теперь он сам лег на тележку, и его повезли по тем же потол-кам, и он сосредоточился, чтобы вспомнить что-нибудь дорогое и хорошее. Повар некоторое время шел рядом, потом ему надо было сворачивать к лифту, и он сказал Казаркину:
- До свидания! Потерпи еще и выздоровеешь. Это больно?
Казаркин не отвечал.
- Ты думаешь о своем, да?
- Да,- сказал Казаркин.
- До свиданья,- сказал Повар и похлопал Казаркина по руке, лежавшей на перильцах тележки, и вернулся к лифту. Казаркин ответил благодарным движением и не сказал, как обычно говорил Повару перед уходом, английское "гуд бай".
Хирургу, который его осматривал, Казаркин отвечал "да" и "нет", подтверждая это подергива-нием головы. Хирург трогал холодными пальцами кости возле носа, надавливал и спрашивал глазами: больно или не больно? Казаркин через силу отвечал "иез". Хирург просовывал свой костлявый палец в изуродованную дыру казаркинского рта, находил шишки, где сращивались кости, и опять спрашивал глазами: больно?
"Иез",- отвечал Казаркин и с омерзением чувствовал, как набегает во рту слюна, хотя палец у Хирурга был чистый и заботливо осторожный. На рентгеновском снимке Казаркина удивило, что голова у него такая большая, он видел железные шампуры, на которых были насажены его кости, и понимающе, без страха кивал, даже Клара в это время смотрела на него соболезнующе, а Хирург - все так же холодно, как варан. Казаркину было неловко за свою внутреннюю антипа-тию к Америке и отношение свое к старому варану, и поэтому он старался скрыть эту антипатию, улыбаясь глазами - делая возле них морщинки, и по три раза произносил, с трудом выговаривая, американское "сэнкью" при каждом удобном случае. И улыбаться и говорить ему было больно, где-то затрагивался какой-то нерв, наподобие "электричества", когда ударишься локтем.
Хирург тем временем говорил Кларе сухим скрипучим голосом, рассматривая Казаркина:
- Здоровый человек, с крепким характером. Он прирожденный солдат.
- Да,- соглашалась Клара.
- Так выздоравливают на фронте.
- Да,- соглашалась Клара.
- Там или выздоравливают быстро, или умирают. Быстро выздоравливают и быстро умирают.
- Да,- соглашалась Клара. Она во всем и всегда соглашалась со стариком, а Хирург, по старости, думал только о войнах прошедших и теперешних, о теперешних он думал уже только профессионально, там ему некого было уже терять: сын его погиб в Корее, он тоже был хирургом. Казаркину казалось, что он понимает разговор, вернее то, что глубже разговора, ему казалось, что Клара - какая-то часть Хирурга, выполняющая то, что Хирург сам не может. Хирург не мог любить или ненавидеть, и это за него делала Клара. Казаркин так глубоко почувствовал это, что остался с открытым ртом, когда Хирург уже закончил осмотр.
Хирург помог ему закрыть рот, и Казаркин почувствовал себя глупо. Вообще перед чужими глазами Казаркин чувствовал себя не очень уютно. Он испытывал на людях недовольство своей наружностью и вообще физическими качествами, ему приходило в голову при виде здоровых, рослых американцев, которые шныряли по госпиталю, что не очень-то это хорошо для нашего престижа, что попал к американцам он, Казаркин, мужичонка мелконький и в детстве голодом примороженный. Вот если бы на его месте был боцман, тогда было бы хорошо, а то они все такие здоровые, толстые и выше каждый, то ли дело, мерялся бы с ними ростом боцман, тот двенадцать порций каши на спор съедал, а рост имел метр девяносто шесть при огромной ширине плеч. Было бы лучше, по соображениям Казаркина, если бы боцман, махина этакая, представлял бы тут русских моряков. Утешало в этой мысли только то, что могло случиться и хуже, попади, напри-мер, сюда Федя Гулимов. Федя был камчадалом, а там и вовсе есть маленькие ростом, еще меньше Казаркина. Нет, конечно, Федя - это уж совсем ни к чему, все-таки двое детей, это не просто так, не какая-то холостежь, перестарок. Еще успокаивало, что послевоенное производство - все, как один, здоровые, длинные, хоть и худощавые, узенькие. Но поработают - мясом обрастут. А перед болью Казаркин собирал все свои силы и терпел, изредка только успевал поматериться, перед тем как потерять сознание. Особенно плохо было, когда отходил наркоз. Тихонько бродил по палате Казаркин, стараясь держать голову на шее так, чтобы боль не мешала ему особенно, чтобы можно было думать.
Он думал о будущем, то есть вообще думал, потому что думать о будущем - это главным образом думать о прошедшем, стараясь вычеркнуть в нем, в прошедшем, то, что не должно войти в будущее.
В хорошие дни представлялось Казаркину, как идет СРТ 91-91 вдоль Алеутских островов с тихоокеанской стороны; идут без траления, просто с разведкой для всей экспедиции, только эхолот включают, иногда тралом поскребут. Матросы сидят в кают-компании и играют в домино или в шахматы. Выйдет Казаркин на палубу - тучи брызг летят над головой, неспокойно море. Похуже погодка стала - и брызги летят дальше. Ветер при том же солнце усилился, летят уже брызги через всю палубу и через верхний мостик - через голову Казаркина, он весело пригибает-ся, а брызги через ботдек летят и еще за корму. Ветер их несет. В тучах брызг играет радуга, водная пыль вихрится между увалами волн, как снег в метель, и весеннее солнце ударяет по этой пыли радугами. Построится радуга и тает потом, растворяется.
Двигатель дает двести пятьдесят оборотов, отдыхают матросы. Солнце и шторм - хорошо вместе посидеть, побазарить, развести толковище про все весеннее, земное. Вот начнут тралить и богато рыбы достанут, пойдут с полными трюмами к перегрузчику, тогда держись. Сейчас идут себе и отдыхают, все помытые, чистые, как дома, робу не надевают. Видит все это Казаркин не детально и связно, а как бы смазанно, расплывчато, только эти чувства и настроения переживает, но так остро, что слышит, как хрустит в тонких, сильно прожаренных частях камбала, которую они когда-то давным-давно утром ели, перед тралением. Даже запах камбалы жареной слышит Казаркин, а сам языком по деснам зубы выбитые ищет, тут были зубы и тут, а только здесь остались и здесь.
В последний вечер Повар принес Казаркину в подарок несколько блоков сигарет и большой пакет с детскими игрушками для мальчика шести-семи лет. Игрушки эти для своего русского сверстника выбирал сын Повара. Казаркину стало совсем неловко, когда его воображаемому сыну подарили пакет игрушек.
- Ты вылечиваешься прекрасно,- говорил между тем Повар.
Казаркин быстро соображал, как он будет объяснять Феде и ребятам, откуда у него взялся пакет игрушек, но ничего подходящего выдумать не мог и машинально ответил Повару:
- На мне заживет, как на собаке. Но Хирург - мастерюга.
- Это очень, очень хороший Хирург,- заулыбался Повар,- он летает на континент делать операции. Он военный хирург. Он разговаривал с Эйзенхауэром. Они вместе воевали в Европе.
- Повезло мне на хирурга,- удивился Казаркин.
- Это твоя большая удача,- согласился Повар.
- Суровый мужик,- сказал Казаркин про Хирурга с одобрением.
- Он очень богатый, но у него неудача. Он одинокий.
- Одинокий?
- Совсем-совсем одинокий. Это очень плохо, здесь не помогают деньги.
- Почему он одинокий?
- Я это не знаю. Клара знает. Она все время его ассистент.
- Клара знает?
- Да, она знает, но не хочет говорить об этом. Но все знают, что он одинокий.
- Она с ним живет? - спросил Казаркин, жалея Хирурга.
- Нет, она не живет с ним. Он же одинокий.- Да нет, я о другом,Казаркин пошевелил пальцами.
- А! Ему уже поздно увлекать женщин. Он уже совсем старый. Это ему не надо.
- Совсем бодрый мужик! - воскликнул Казаркин, стараясь оправдаться.
- Он имеет семьдесят лет!
- Семьдесят? - Казаркин никак не мог поверить, что Хирургу семьдесят лет.
Потом они поговорили о климате Америки, о том, что он способствует через сельское хозяйство высокому жизненному уровню.
Казаркин рассказывал, как много снегу выпадает за длинную зиму на великие просторы Советского Союза, а Повар, хоть знал это и раньше, страшно удивлялся личным казаркинским наблюдениям, потому что даже в Южной Канаде, где он жил раньше, климат намного мягче, хотя американцы считают и канадский климат очень суровым.
А потом произошел очень смешной разговор о матерщине. Повар задал несколько вопросов и заинтересованно ждал разъяснений. Казаркин же вдруг обиделся и засипел, нужно было что-то сказать Повару, но в голову ничего подходящего не приходило.