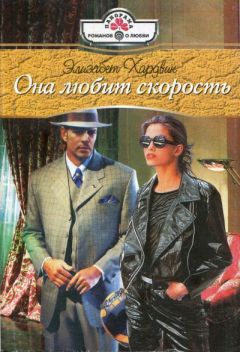Александр Левитов - Бесприютный
А отчего гнездо в раззор пошло? Вот отчего; муж жене пишет из Москвы: «Дошли как до нас слушки насчет ваших негодных делов, то мы объясняем вам, что шоссейному вахтеру этому головы на плечах не сносить и вам тож…» Мужик спыльчивый, — все знали. Замотали соседи головушками, — думают: как это у них пойдет? Очень это антиресно! Но только вахтер, наслышамшись про мужицкую правду, со страху запился и сбежал куда-то… За ним и бабенка укатила. А мужик словно угорелый прибежал на деревню — кричит: «Где, где они, идолы? Уж отыщу же я их!» Да вот четвертый год все и отыскивает… Отдай пальтишечко-то, — не жалей! Тебе господь за это сторицей…
— Ах, как это мы щедры на чужое добро! — вдруг налетел на нас, как снег на голову, содержатель постоялого двора с своим полуснисходительным, полунасмешливым языком. — Это он насчет чего, ваше благородие, лепортует? Насчет помоги? Можно! Ну, майор, вынимай — и мы вынем… Ха, ха, ха!
Хозяин достал из штанов длинный кожаный кошель, начал им трясти перед глазами вдруг почему-то обробевших ребятишек и говорил сконфуженному майору:
— Вынимай! Вынимай! Поможем нашим сиротинкам, чем нам чужого барина беспокоить. Ведь мы с тобой здешние обыватели, богачи… Хе, хе, хе! Раскошеливайся!
— Голубчик! — заговорил мне старик, переменивши свое обыкновенное, так нравившееся в нем благодушие на тон человека негодующего и жалующегося. — Смотри на него, как старый человек по пустякам зубы-то скалит. Ведь это он меня просмеять пред тобой норовит, штобы ты видел, какой я перед ним необстоятельный человек выхожу…
— Ну, ну, майор, разойдись! — посмеивался содержатель постоялого двора.
— А ты думаешь, не разойдусь? Целый век протерплю?
— Про то и толкую: расходись!..
— Слышишь, барин, за что они меня майором прозвали? Вот эти милые-то… Сказал я им, дурак, как я из купцов однажды, большую торговлю бросивши, на Кавказ в солдаты убег, — не продался, а по своей охоте. Думаю: посмотрю, какая такая на свете война бывает. Сижу я так-то однажды на часах, на горке, — пчелки около меня жужжат, плетеньки какие-то узорные вниз по обрывам сбегают, — сижу я это, сударь ты мой, с ружьецом обнявшись, и думаю: господи! Хоть бы капельку счастья!.. Где-то, мол, оно запропало от меня — от молодца? А он вдруг меня из-под горы-то и проздравил… Как грохнет в пистолет! Я с горы-то за ним, — бегу, сам не знаю куда и за чем, — настиг, да как шарахну его штыком в бок… Кровь на траву потекла, — захрипел!.. Мужчина, вижу, дюжий, — все тело у него ходенем пошло! Вздрагивает, словно бы его холодной водой окатили… Смотрел-смотрел я на него, ровно бы в полоумстве каком, и заплакал, по-бабьему закричал во весь голос. Господи! Думаю, за что это я человека-то ухлопал, словно барана какого?.. Так вот они теперича над этим делом грохочут вот уже который год… да майором и прозывают.
— Што же, тебя за твои глупые разговоры хвалить, што ли?
— Нуждаюсь я в твоей похвальбе! Ты понимай только, сколь это человеку тяжело, ежели без пути про него подлые разговоры ведут… ради скуки… Ведь это все одно что петлю на шею надеть человеку и тянуть его смеючись, а особенно ежели какой человек в понятии состоит в настоящем… А? Вам этого не дано?.. Вам только зубы скалить…
— Расходись! Расходись! — подзадоривал дворник.
— Нечево, друг! Меня не раззадоришь… Наплясался я под эти ваши музыки-то, с меня будет. А вы вот, барин, прислушайте, отчего я беден теперь стал, наг и бос. Все вот от этих — от смехунов-то… Не я их смолоду спаивал, а они меня. У меня, глядя на их паскудство, сердце все изболело. Я в старину молодец был, деньги умел из кремня доставать, потому было ли дело на свете, какого бы Федор Васильев не оборудовал? А на мразь на эту смотришь-смотришь, бывало, как она мается, — ну, думаешь: дай же я им душу-то хоть раз отведу… Пущай, мол, хоть разок сердчишки-то у них как следует поиграют… И тут с ними ничего, бывало, не сотворишь. Один день на чужие деньги пропьянствуют, а на другой — нюнить примутся… Родителям начнут жаловаться: Федор Васильев их в соблаз ввел.
— Вот он у нас майор-то какой! — подсмеивался мне хозяин, теряя, однако, в значительной степени ту самоуверенность, с какою он обыкновенно нападал на старика. — Я вам говорил, сударь, — вы его раскусите только…
— За дело взялся, — продолжал старик, не слушая хозяйских речей, — ограбили. Сколько деньги моей разошлось по околотку, — конца краю нет! Жену из дальних краев привез — смутили. И что только от скуки эти люди про нее не разговаривали: быдто, то есть, я ее с кобылы взял, из-под палача… Не снесла баба этой городьбы, — стала задумываться, чахнуть, — ну и сгасла…
Помню, сидишь где-нибудь, бывало, а они шушукают: «Совсем ведь бабенку-то его стегать привезли на базар, а проходимец-то наш тут и случись. Сжалобился сейчас и говорит начальникам, не стегайте ее, почтенные господа, потому я с ней вступлю в законный брак…»
Ну да нечего, что было — то прошло, — что будет — увидим, а теперь просим, сударь, прощенья!.. — Подошел ко мне наконец старик, обнял и поцеловал. — Ведь он мне никогда отдыху не дает, — прибавил майор, показывая на хозяина. — Приючусь я так-то у какого-нибудь хорошего человека, так он ему такое на меня сплетет… Свежие какие люди от скуки этими разговорами с ним пристально занимаются, — и верят. Ты-то, я знаю, не поверишь. А смолоду, признаться, чтобы как-нибудь грызню унять ихнюю, дюже ухитрялся я приладиться к ним: то это форс, бывало, на себя напущу, то деньгами примусь оделять, то смиренством пронять их старался… а они-то-ха, ха, ха!.. ну, сам виноват! Не так нужно было! Во всем сам виноват! Об этом у господа бога моего на страшном суде буду прощение просить, чтобы он меня рассудил… может, и мне выйдет прощенье от него — от батюшки…
Печально склонивши вниз седую лохматую голову, старик вышел, а содержатель постоялого двора, сидя на стуле, протяжно заговорил мне:
— Вот за то никто и не любит старого! Как начнет, как начнет; а ведь, кажись бы, при такой при бедности, правду-то в карман нужно прятать… Всякая курица его теперь может обижать, не токма человек… С достатком особенно!..
Более уже не будили меня веселые стариковские крики.
Другой день, после описанного разговора, начался в шоссейной деревушке страшным гвалтом:
— Где, где он? — звонко стукая сапогами, кричали на улице люди. — Кто же это его отработал?
— Тут отработают…
— Где он лежит-то? Надо взглянуть. Как он? Ножом кто-нибудь али как?
— Кулаком кто-то ухитрился! Всю башку разнес. Говорили чудаку: не мешайся не в свое дело… эх, майор, майор! Доколотился до какого дела!
— Укокошили, сударь, друга-то нашего! — пояснил мне людскую суетню содержатель постоялого двора, вошедши в комнату. — Пойдемте туда. У вдовы тут у одной — у бедной — лежит. Надо свечек купить, ладонцу, того да другого, — помогите, ежели ваша милость будет. Нельзя-с человеку, как собаке какой, умирать. Весь век жил, как люди добрые не живут, — похороним хоть по крайности… по-христиански…
Мы с хозяином пришли в какую-то маленькую разваленную избенку, где сидела седая старуха, задумчиво и серьезно принимавшая от доброхотных дателей различные приношения, имевшие сделать конец стариковой жизни хоть сколько-нибудь похожим на всякий христианский конец.
Сморщенный старик, из отставных солдат, дряхлый такой, то и дело понюхивая табак, уныло гнусил по псалтырю, переплетенному в замасленную кожу: «Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего…»
В белую, как кипень, рубаху кто-то облачил старика. Она была не застегнута и показывала тощую желтую грудь. Левая щека и висок были, как разговаривала улица, действительно разнесены каким-то лихим шоссейным кулаком. Левый глаз выпятился из орбиты красной, одутловатой шишкой, накрытой седыми, расцвеченными запекшейся кровью волосами; а правым уцелевшим глазом, мне казалось, старик, как и во времена нашего с ним доброго знакомства, шутливо и ласково помаргивал мне и говорил:
«Андел, прости ты меня, старика, Христа ради, виноват! Сбегать, что ли? хе… хе… хе!..»
1870