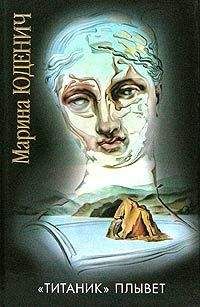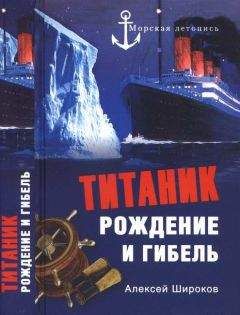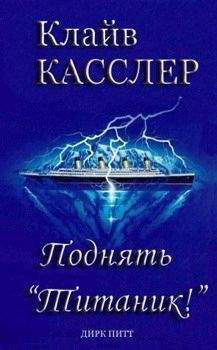Юрий Анненков - Любовь Сеньки Пупсика (сборник)
На нарах морга, поленницей, лежали мертвецы под брезентом. Балерина широко раскрытыми византийскими глазами впивалась в осклабленные лица. Писатель силился припомнить цитату из Эдгара По. Абраша Едвабник беседовал с начальником морга о дополнительных ассигновках.
Погадав по пальцам, балерина указала на бородатого покойника. Под номером бородатого значилось:
«Гр. Трофим Седякин, сапожник-кустарь».
Абраша Едвабник приказал золотом высечь это имя на черной мраморной доске. Избранник Жизели и Коломбины, сапожник Седякин, вошел в историю.
— Так последний — стал первым, — сказал писатель.
— В общем и целом, забавный факт, — заметил по этому поводу Абраша Едвабник и нежно взглянул на балерину. Писатель возвращался домой пешком.
10
В жаркой багряной пыли августовского вечера кончался на Марсовом поле «день смычки физкультурников с Красной армией». Возбужденные легкой атлетикой, метанием дисков, прыжками и бегом, строились в колонны загорелые голые юноши в цветных трусиках, и под свист и гиканье запевал, под звонкое рявканье духовых оркестров, огибали могилы Жертв революции, вдоль циклопической кладки кладбищенских стен, возвращаясь в казармы. Впитывая одобрительные взгляды зевак, гордые бицепсами, крепким загаром и ощущением ритма, расползались по улицам ровными рядами, оставляя в воздухе легкий след приятного, щекочущего пота.
Поле быстро пустело. Разъезжались последние автомобили почетных гостей и шефов, принимавших парад и руководивших смычкой. Кумачовое солнце неярким кругом опускалось за Петропавловскую крепость. Тонкие стволики чудом возникшего на огромной площади сада безвольно таяли в синеющих сумерках, и траурные стены кладбища — неоконченное создание беспутного и пьяного архитектора — архаическим силуэтом, странным и новым для Петербурга, врезались в небо…
Маленький домик на 5-ой Рождественской стоял почерневший, пригнувшийся, безучастный ко всему и неживой, за сорванной с петель калиткой забора. Тяжелые веки ставень легли на окна, приоткрывая сквозь щели помутневшие и незрячие полоски стекла, и в морщинах карнизов темнела зеленоватая сырость тления. Так, с неощутимой быстротой, преображается опустошенная материальная оболочка человека после его смерти: западают глаза, отвисает челюсть, сходят на лицо незнакомые черты мудрости, познания и покоя.
Близилась ночь, когда на 5-ую Рождественскую, возвращаясь в казармы и на сборные пункты, вступали физкультурники. Хрипло лаяли медные трубы, высокий и легкий голос взлетал к чердакам. Мертвый домик одиноко чернел, похожий на старый, ненужный ящик, выброшенный на задворки. Калитка беспомощно висела на последнем гвозде, как рука паралитика.
Один за другим, разрывая ряды, вбегали голые люди в калитку; смеясь и торопя друг друга, останавливались они у кирпичных стен подвала или, заходя в подъезд, присаживались под лестницей на корточки, напевая революционные гимны…
Проходили недели и месяцы. Гниющий труп несхороненного домика распространял зловоние. Под лестницей копошились мокрицы и буравили туннели жирные червяки. Ноябрьская стужа прильнула к мертвецу покровом небрезгливого инея…
Началось с дверей и ставен. Потом оторвали резные наличники. Чем сильнее становились морозы, тем заметнее таял маленький домик. К декабрю его вывернули наизнанку, как старое пальто. Нескромно обнажилась ветхая подкладка обоев, заплатанная квадратами тех мест, к которым раньше прислонялась мебель и где висели расписные часы и календарик. Покрытые узором незатейливого трафарета, выцветшие поля простенков расползались по швам. Улыбался легким снежинкам, белым зимним бабочкам, портрет Иоанна Кронштадтского. На полу, вдоль карнизов, узкой полоской чернели братские могилы тараканов. Мельчайшие следы сокрытого быта, дактилоскопические оттиски горя и радостей, убожества и тоски, пласты интимнейших привычек безобразно проступали наружу. Это было пейзажем трагическим и волнующим, было тревожным и жалким зрелищем: фрагменты людского уюта под открытым небом.
В конце января, среди кирпичных контуров подвала, одиноко торчал ствол прокопченной печной трубы, — разрозненные окаменелости скелета, по которым старательный палеонтолог тщится восстановить формы живого тела. Кирпичи были вскоре проданы с торгов Жилотделом подрядчику Бройдесу, шурину товарища Ботвинника, не попав в прохладные витрины Зоологического музея…
В солнечный день 1-го мая, небольшой пустырь 5-ой Рождественской, где недавно горбился старенький домик, представлял необычайную картину. Прямоугольник площади был гладко расчищен и посыпан гравием. В самом центре возвышалась трибуна, сколоченная из досок забора и обтянута я красным миткалем, еловыми гирляндами и лозунгами. У трибуны, на высоком шесте, доска с надписью: «Районная детплощадка имени Станислава Балчуса». Алые флажки трепал весенний ветер. Петербургская весна, бодрящая свежесть залива, чуть уловимые запахи подснежников и хлесткие капли шального дождя, петербургская весна сладчайшая из весен! Зеленело радостное небо, крылатый и дерзкий ветерок, прилетевший из прекрасного далека, вздувал флажки, ситцевые рубашонки ребятишек и пестрые юбки их матерей.
Зав Жилотделом, товарищ Ударов, и представитель Наробраза Николаев произносили речи. Ударов говорил:
— В пролетарском государстве нет места зажиревшим буржуям и брюхатым капиталистам, протягивающим свою властную руку. Железной рукой пролетариат вырвал власть из их кровавых рук и передал в мозолистые руки трудового народа и бедняцкого класса. Дорогу бедняку! Всем трудящим и неимущим советская власть помогла свободно вздохнуть и окрепнуть. Освобожденный пролетариат не забывает рядовых борцов за освобождение. Товарищ Балчус своею собственной рукой исполнял заветы…
Зав Жилотделом Ударов говорил вдохновенно и долго.
Сны
1
Письмо, которое не дошло по назначению:
«Мой дорогой, горячо любимый отец!
Меньше всего мне хотелось бы расстроить тебя, причинить тебе горе. Помнишь, ты часто упрекал меня в неумении „смотреть философски на вещи“? Теперь я предлагаю тебе вооружиться хладнокровием и, в свою очередь, отнестись философски к тому, о чем не могу не написать тебе. Впрочем, ничего ужасного не произошло: просто мне должны ампутировать ногу. Еще часа два осталось до операции, и это время мне хотелось бы заполнить беседой с тобой.
Меня ранили в бою, раздробили кость выше колена. Бой был, как все бои. Мы находились в березовой роще. Довольно об этом. Я не был трусом. Даже в детстве, когда я дрался с мальчишками — помнишь? — я никогда не трусил и не бежал. Но теперь, перед операцией, я боюсь, я впервые понял, что такое страх, мне страшно думать о предстоящем. Смерть и другие опасности, даже худшие, чем смерть, всегда представляются в бою только возможными, но не обязательными. Вообще, там, в мокрых окопах, в слякоти, в огне — рядом с думой о смерти всегда горит надежда на победу, мечта о счастливом отдыхе. Там непременно стараешься подвести под мрачную реальность войны понятие о долге, отыскать в кошмарах боевой жизни то спасительное „во имя“, которое может еще воодушевлять на подвиг, оправдывать убийство и вознаграждать за страдания. Там стараешься помнить о конечной цели, смягчающей личные лишения сознанием, что они переносятся ради общего блага. Такие чувства бывает трудно удержать до конца, но в какой-то начальной степени они неизбежны почти для каждого, а в особенности для тех, кто, как и я, пошел воевать добровольно…
Здесь — совсем иное. Здесь, вдали от боевой обстановки, в далеком тылу, в светлой хате, на больничной койке — рассеивается туман, окутывавший ум, чувства становятся проще и откровеннее, и потому идея общего блага, идея жертвенности бледнеет, распыляет свое содержание, свой смысл, и на поверхности остается только личное несчастье, до которого, по совести, никому нет дела, — нелепость, бессмыслица, трагедия, неотвратимая, несправедливая и жестокая!
Существует ли действительная ценность таких понятий, как долг, общее благо, подвиг? Сейчас для меня существует только физическая правда страдания. Должно быть, поэтому бывает тяжелее пережить потерю ничем не замечательного, но близкого человека, чем смерть национального героя. Лишенный побрякушек высоких идей, животный страх перед неминуемой катастрофой встает во весь рост, путает мысли, вызывает испарину и перебои в сердце… Человеческая жизнь без побрякушек напоминает рождественскую елку, с которой сняли украшение: остается только бросить ее в мусорную яму и вымести зеленые горсти опавших игл.
Доктор, утешая меня, напомнил мне еще одно понятие: родина. Я думаю, так утешать могут только посторонние люди. Мне начинает казаться, что любовь к родине — какое-то кошачье чувство: кошки привыкают к месту, к обстановке, к географии…