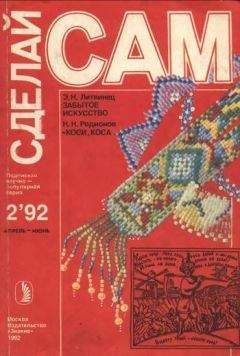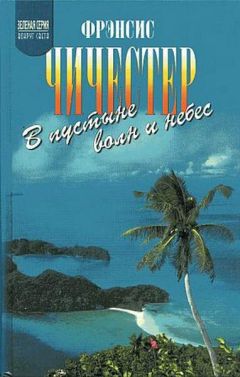Шломо Вульф - Водолазия
Оставалось только показать им мою водолазию! По целинной привычке я выбрал для деморализации прочих самого амбалистого, на меня похожего. Того, что у хи-ляка, как водится, в телохранителях ходит. И, не дожидаясь, излишнего накала страстей, звезданул его кулаком в солнечное сплетение. Он тут же скрючился, прижался щекой на гравийной тропке. Только ногами сучит и на меня беззвучно рот раззевает.
После первого удара темп терять - верная погибель. Не оборачиваясь, я в тот же момент второму по рангу, что заранее у меня за спиной было пристроился, врезал снизу вверх каблуком по яйцам. Он тоже сел и на звезды уставился - сроду таких ярких не видел... Осталось четверо на одного. И уже с финками - все! Тут вся надежда на психологический эффект. Я у гиббонистого брюнета с золотой фиксой перо ногой выбил, а его самого сгреб за воротник так, что сразу лопнули и пиджак, и сорочка, и кинул голой спиной на паршивчика. Оба влетели в реку, и их там стало илом затягивать, пока друг на друга залезали. Ну, а двое мне уже, как Василию Иванычу, когда до земли три метра осталось - с такой высоты мы, мол, и без парашюта прыгать привыкли. То есть одному сбоку по челюсти так, что он, как оглянулся назад, так и завертелся в этой позе, а второму - лбом в переносицу, чтоб глаза его меня больше не видели. Тут те, что в ил было залегли, вылезли. Гиббонистый на четырех руках ползет ко мне, воет от ярости и плюется черным илом, сквозь который его фикса искрит. Недоостыл. Ну, я ему пыром под челюсть, чтобы еще поплескался, падла. Фикса тут же погасла во глубине вод. А мокрого хиляка, что в бега было кинулся, я поднял за штаны и галстук, поднял над головой, раскрутил и чуть не на середину реки закинул.
В нашем ратном деле - самый впечатляющий трюк.
А как бы вы себя вели, если тут Танечка визжит от восторга и в ладошки хлопает?
Шпане уже не до нас. Те, что оклемались маленько, ныряют, любимого главаря спасают, ориентируясь по редеющим пузырям на воде. Да и мне не до них - арис-тократа моего надо разбудить и смыться, пока им подмога не подоспела или они сами не озверели окончательно. А барон, как назло, таращится: где это я? ты кто? Пришлось его волочить в кусты за прибрежной трассой. Он там снова в свою нирвану рухнул, а мы с девочками сидим и пикнуть боимся - по берегу уже человек пятнадцать бегает, из воды утопленика волокут, тятя, тятя, наши сети!.. Попадись я им после того, что успел натворить!.. Да и милиции я после тех чеченов боюсь. Изи рядом нет. Кто меня вызволит? Да и Шура мне велел не высовываться, а?
Тут, на наше счастье, рейсовый автобус остановился, как раз между нами и ними. Я затащил туда за шиворот мертвеца-барона, а девочки влетели раньше. Томка пригнулась на сидении, чтобы те ее не заметили, а Таня, напротив, бросилась к заднему стеклу - воздушные поцелуи им посылать.
* 3. *
1.
Маме с целины я писал часто, деньги посылал ежемесячно, но не приезжал ни разу - некогда было. То один аврал, то другой. То на работе, то в комсомоле. И вот поезд домой - в Эмск! Уже лениградец, студент Корабелки. Ни перед кем не стыд-но показаться. Деньги я заработал в порту, на вертушках. Впрочем, ты со мной там на дорогу к себе домой зарабатывал. Ты был свой парень, не Феликс.
- Хоть и еврей?
- Не ехидничай. Впереди об этом и речь... Итак, вокзал. Лето, светло, хоть белые ночи и на исходе. И поезд. Вагон, конечно, не купейный. Такое мне надолго было не по карману. И Шурика на этот раз мне в дорогу не попалось. Публика была со-лидная, семейные, с детишками. Так что дорогу я и не запомнил.
В полдень следующего дня появился наш вокзал... Убожество, но до чего милое! И поезд стоит всего две минуты - только соскочить на перрон.
Маму я не узнал. Так постарела, словно я с бабушкой, ее мамой, встречаюсь. И да-вай плакать. Я стою с чемоданом с подарками, за спиной рюкзак, одет с иголочки, а на шее висит чужая пожилая женщина вроде тех, что к нашему поезду на всех станциях горячую картошку в кульках выносили. И плачет, плачет. Потом под-няла на меня красное мощнистое лицо, и я увидел ее глаза. Мамины глаза! И так мне на душе тошно стало, так стыдно, что не приезжал...
Никаких там не было такси или автобусов. Шли себе по улицам и говорили. Она все норовила чемодан мой понести, словно боялась, что я снова исчезну, а без че-модана вроде бы не сразу... Эмские улицы - лужи, куры, заборы, сады за ними. Родина. И наш дом. Вот-вот развалится. Все, что могло покоситься, наклонилось как-то сразу во все стороны. На крыше дранка торчит сквозь толь. Жилище семьи героя целины... Зато в горнице чисто. На столе чего только нет, а у меня от тоски в глазах только зеленая этикетка "Московской". Я торопливо умываюсь и - за стол. Стакан всклень себе, маме тоже наливаю, а она и говорит: "Нельзя мне Димочка. Нездоровая я..." "Совсем нельзя? - сдуру спрашиваю. И только потом: - Так что с тобой? Язва?" "Уже нет, - плачет она. - Рак у меня. Ты попрощаться приехал, сынок..." "Может... ошибка?" "Раньше была ошибка... Теперь точно. Ты пей, ешь. Молодым жить. Счастье-то мне какое! Студент. В Ленинграде живет. Да еще с орденом. Тобой тут все гордятся."
Я сидел, как пришибленный. Впервые не знал, что же мне теперь делать.
"Хочешь, я возьму на год академический отпуск и с тобой тут поживу?" "Не надо. Тетя Даша за мной хорошо ухаживает. Она медицинский работник. Знает как укол сделать. Что мне толку тебя с учебы срывать? Побудь со мной этот месяц. Бог даст, как раз и похоронишь..."
Я стакан хлопнул и новый наполнил, а сам оглядываюсь, где вторая бутылка - от таких-то новостей! Мама махнула рукой и тоже налила себе немного.
"У тебя девушка-то есть? - спрашивает она, когда от водки порозовела, а то была такая желтая, какими живые люди и не бывают. - Я думала, ты с Галей приедешь. Благословила бы..." "Есть, - говорю, а у самого сердце так сжало, что, поверишь ли, водка не пошла. - Да еще какая!" "Красивая?" "Самая красивая на свете." "А откуда она?" "Местная. Ленинградка." "Тамара, о которой ты писал?" "Нет, - отвечаю. - Ее зовут Таня. Таня Смирнова..." "Ну, будь с ней счастлив. Я ее заочно благославляю на совет да любовь с тобой. Ты кушай. Знаешь, как я старалась! Все твое самое любимое. Дранники делала перед самым уходом на вокзал и укрыла. Еще горячие. А обо мне ты не думай. Старухи всегда умирают." "Старухи! Тебе всего-то..." "Неважно. Главное, чтобы ты был здоров и счастлив. Только мне одно не нравится... Сначала так тепло писал о Гале, потом о Тамаре. Теперь Таня. Твой папа так не метался. Хотя... Может это он потому, что не был таким интересным... Вот меня и выбрал... раз и на всю жизнь... Только вот Бог ему этой жизни не дал - на такого сына полюбоваться, - снова заплакала она. - Ты не обращай внимания. Ослабела я от болезни. Ты хоть раз в детстве видел, чтобы я плакала? А теперь ото всего, что подумается или вспомнится, плачу, плачу... Как маленькая..."
2.
Нашу деревянную школу, одноэтажную с мезонином, построил какой-то меценат прошлого века по английскому проекту. Она была своего рода чудом архитектуры. Огромные окна, простороное крыльцо с обшарпанными колоннами.
Летом в школах пусто. Сам не знаю, зачем зашел. Просто, как пели в позже придуманной песне, пройтись по старым школьным этажам. Дверь в учительскую была раскрыта и первое, что я там увидел, был огромный белый лоб, за которое наш учитель математики и получил свое прозвище. Он тоже заметно постарел, с трудом разогнулся над столом мне навстречу, но меня узнал сразу. "Митенька, - раздался родной тонкий голос. - Вот и встретились. А то только читаю да слышу о твоих победах. Смотри, - метнулся он к стеклянному шкафу, - тут все вырезки из газет о тебе. Вот тут Указ о награде, тут из "Комсомолки" заметка. Так ты теперь кораблестроитель? Горжусь! Вся школа гордится." "Не мной же одним? С вашей-то подготовкой! Небось Броня университет уже успела кончить?" "Не взяли ее в университет имени Шевченко." "Броню?!" "И Фиру тоже. Провалились мои девчушки. Тамошний ректор чуть ли не по радио сказал - я возьму в свой универ-ситет столько же евреев, сколько их работает на шахтах Донбасса... И не взял!" "Как это не взял? - вспомнил я дикий конкурс в Корабелку и полно поступивших евреев. Так не бывает. Провалиться по математике Фира не могла! Что за чушь..." "А ведь провалилась! Они там это умеют. И концов не найдешь. Все нашим евреечкам говорили - идите в том же Киеве в другой вуз, хоть в политех-нический. Нет! Закусили удила. Ты же знаешь Фирочкин характер." "И?.. Что же они закончили?" "Фира ничего... - заплакал Лобик. - С моста в Днепр бросилась... Нету ее больше..." "А... Броня? - сжалось мое сердце от воспоминания о моей рыжей ласковой подружке. - Броня... выжила?" "И Брони нет. В Эмске нет, - спохватился он, увидев, как я снова бледнею. - И вообще в Союзе. Когда она вернулась, ее отец, Моисей Ильич, директор фабрики, партийный билет на стол бросил. Его тут же уволили. Они всей семьей уехали в Кишинев. Имущество продавали с молотка. За бесценок. Ничего, говорила мне Броня, нам не надо с такой родины. А из Кишинева попросились сразу вроде бы в гости к родным в Румынию. А оттуда - в Тель-Авив." "Здорово! Вот это Бронислава! И как она там?" "Кто ж это может знать? Хорошо наверное. Прислала мне как-то письмо. Ни слова, ни обратного адреса. Только вот эта фотография в военной форме. Смотри, какие бравые евреи в своей стране! Жалко только, Митенька, что Фирочки с ней рядом рядом нету. Не уберегла подружку..." "А... Фирины родные? Ну, тетя Клава и дядя Саня?" "Саня уже Ицхак. Большой человек в Израиле. Скоро, Мить, - зашептал Лобик, - они все там будут! Нам на погибель... Представляешь, что Броня напридумать сможет, а? Им с американцами? А миллионы евреев?.."