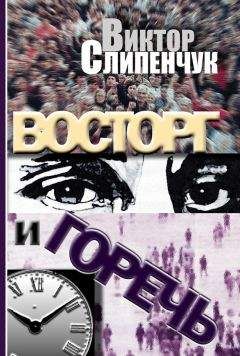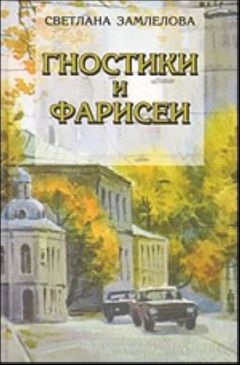Виктор Слипенчук - Зинзивер
- Зато деньги соберешь сразу. Мало - много лучше, чем много. Кроме того, у большинства твоих литераторов еще ничего не написано. А потом месяца через три-четыре, когда некоторые начнут теребить: как идет работа над книгой? - всегда можно сказать о денежных затруднениях, о внезапном подорожании технических услуг. Вот увидишь, - сказала Розочка, - никто не пикнет, пока сам не объяснишься, а ты не торопись - жди.
И еще, научила она, чтобы ни в коем случае не брал взносов со старосты и его помощника. Напротив, потребовала, чтобы, как только у меня появятся деньги, сейчас же им вернул все, что когда-то брал в долг. Но если будут отказываться - не настаивал, не перегибал палку, чтобы не подумали, что вместо них уже подыскал новых помощников.
Результат превзошел самые смелые ожидания. От собрания к собранию количество членов литобъединения все прибывало и прибывало. И даже более чем в геометрической прогрессии. В один из августовских дней меня встретил на крыльце в ДВГ наш редактор молодежной газеты, только что вернувшийся из отпуска.
- Слушай, - сказал он, хватаясь за голову, - неужели все они что-то пишут?!
- Пытаются, - уклончиво ответил я. - А в чем дело?
- Послушай, о чем они толкуют?! Их так много, и ни одного знакомого лица!
Он сунул мне в руки ключ от актового зала, заметив, что под мою персональную ответственность (после ремонта кресла были обтянуты красным дефицитным велюром). И, все еще находясь под впечатлением увиденного, точно в бреду, пробормотал:
- Конец света, конец!..
Он сбежал с крыльца и, не оглядываясь, что-то бормоча себе под нос, свернул за угол.
Поведение редактора насторожило. Поначалу я здорово испугался. Его вопрос: неужели все они что-то пишут? - застал меня врасплох. У меня даже мороз пошел по коже: я уловил в вопросе изобличительные нотки полнейшего неверия в литературные способности людей, собравшихся на очередное заседание. Мне это показалось подозрительным.
Я тихо прошел коридорный тамбур и, придерживая тугую дверь, чтобы не привлекать внимания дребезжащим хлопаньем, вошел в вестибюль. Мое появление осталось незамеченным, и немудрено - стена из пиджаков, фуфаек, френчей какого-то общесерого поношенного цвета, под которыми угадывались пожилые, большей частью действительно согбенные, натруженные спины, заполняла пространство вестибюля настолько плотно, что я сразу почувствовал себя у двери как бы оттесненным толпой. Если бы не редактор, ни за что бы не догадался, что это мои начинающие литераторы. Подумал бы: в ДВГ проходит какой-то расширенный слет рабселькоров, они вывалили из актового зала на перерыв покурить и, судя по тому, что стянулись в обособленные группы, продолжают дискутировать на строго заданные газетой темы.
Особенно громко и горячо спорил у своего начальнического стола под лестницей дежуривший вахтер-пенсионер Фатей Никодимыч (зимой и летом в валенках с галошами). Он так разошелся, топая ногами, что не только я, а многие (это улавливалось по отчетливо стихшему вокруг говору) начали прислушиваться к нему, стараясь вникнуть в предмет спора.
- А я еще раз говорю, - зычным голосом настаивал Фатей Никодимыч. Простая пензия выше - сто тридцать два рублика, а персоналка - всего сто шесть, даже сто четыре!..
- Ну дак там льготы, - вмешалось несколько голосов.
- А я об чем? - обиженно спросил сразу все общество Фатей Никодимыч и примирительно заключил: - В том-то и дело - льготы, а он ерепенится.
Кто ерепенился, я не видел из-за спин, да и не пытался увидеть. Возобновившийся дружный гул голосов не оставлял сомнений: тема дискуссии теперь у всех общая и по-настоящему животрепещущая.
Меня бросало то в жар, то в холод. Я понимал, что как-то надо овладеть ситуацией и начать заседание, и не представлял, каким образом.
Я опять выскользнул за дверь и вышел на крыльцо, чтобы освежиться. Солнце было еще высоко, но в пасмурности дня уже накапливалась предвечерняя дымка. Вокруг было тихо, тепло, просторно. И до того вдруг захотелось уйти куда-нибудь от этих согбенных литераторов... ну хотя бы на древний городской вал, что я невольно шаг за шагом стал спускаться с крыльца. Наверное, так бы и ушел, если бы не тополь - неожиданно ласково залопотал листьями и уронил на лицо несколько случайных капель. Он словно бы загодя оплакивал меня, Митю Слезкина. Я резко повернулся на сто восемьдесят градусов и, словно мои шаги с крыльца, лопотание тополя, случайные капли, все-все строго входило в мой план предстоящих действий, решительно направился внутрь здания.
На этот раз умышленно сильно хлопнул дверью. Даже немного не рассчитал и едва не наскочил на какого-то пожилого дядьку (дверь на скорости догнала меня и буквально втолкнула в вестибюль). Мне казалось, главное - обратить на себя внимание, а дальше уже не составит труда увлечь за собою литературные дарования. Тем не менее почти никто не заметил моего шумного появления. То есть на меня оглянулся дядька, его собеседники тоже посмотрели, но как-то невнимательно, как на назойливую муху.
Никогда в жизни я не чувствовал себя столь посторонним и никому не нужным. И где?! Среди членов своего родного литературного объединения. Теперь я был подавлен не хуже редактора газеты: "О чем они говорят?! Конец света, конец!.."
И опять выручила Розочка. Стоило мне на какое-то мгновение мысленно воззвать к ней, стараясь представить, как бы она поступила в данной ситуации, и в следующую секунду я уже точно знал, что надо делать. Более того, как говорится, на все сто... не сомневался в успехе.
- Това-арищи, ай-ай-ай, - тонко и звонко возопил я, словно вот только что натолкнулся на что-то из ряда вон. - И это инженеры человеческих душ?! Вопиюще, вопиюще!.. - продолжал я нагнетать обстановку всеобщего дискомфорта.
Почувствовав, что гул голосов ослабел и меня заметили, я смело ринулся в самую гущу литобъединенцев. Продираясь к лестнице, не жалел локтей, бесцеремонно расталкивая всех подряд.
- Кто позволил, кто разрешил?! - громко негодовал я, набрасываясь на спины, точно разъяренный тигр. - Не курить, не сорить, слышите!.. возмутился с такой страстью, словно курение и сорение были издавна моими злейшими личными врагами. - Слышите - не курить!.. - захлебываясь в гневе, повторил я и на секунду оторопело застыл, полностью исчерпав запретительный запас слов.
- Кто это? - услышал я за спиной.
- Наш руководитель... гегемон, начальник...
Судить не берусь, как стала бы развиваться ситуация, если бы толпа не расступилась. Но она расступилась, обнаружив в конце живого коридора нашего вахтера Фатея Никодимыча.
Он стоял по стойке "смирно", насколько позволяли возраст и сугубо пенсионерское обмундирование: меховая поддевка, темные суконные штаны и знаменитые валенки в галошах. Весь его вид выражал виновность, поэтому мне не составляло никакого труда сымпровизировать.
- Не ожидал, никак не ожидал от вас, Фатей Никодимыч, что вы позволите курить прямо на вашем посту, - строго, точно партсекретарь, сказал я и, увидев, как конфузливо заулыбался старик, смягчаясь, подытожил: - Да и то верно, взрослые - сами должны понимать.
- Вина тут, конечно, моя, всяких здесь повидал, но чтоб такие интересные люди и сразу в таком большом количестве - впервые, вот и не устоял, разрешил, пусть, думаю, маленько подымят, - повинился Фатей Никодимыч.
- Интересные-то интересные, - польщенно согласился я, - но посмотрите, как насмолили, хоть топор вешай!
Я засмеялся, и вслед засмеялся Фатей Никодимыч, а уже за ним облегченно и все остальные (слава Богу, руководитель, гегемон... простил нарушение инцидент исчерпан).
Руководитель, гегемон?! Я, Митя Слезкин, руководитель-гегемон - весьма важное умозаключение литобъединенцев, чтобы им не воспользоваться. И я воспользовался. Не отходя от начальнического стола под лестницей, поручил Фатею Никодимычу открыть актовый зал. Заметив в толпе трех прежних членов литкружка (двух Горьких и одного Маяковского), подозвал их к себе, приказав пролетарским писателям стоять у двери (следить за порядком), а Маяковскому (человеку с морщинистым лицом, маленькому и юркому, о таких говорят: метр с кепкой) дал указание разыскать старосту литактива и его друга.
Мой авторитет руководителя рос буквально на глазах; отдавая по-военному четкие распоряжения, я чувствовал себя действительно гегемоном. Особенное уважение у окружающих вызвало мое указание Маяковскому, который, обладая редкостным басом, так зычно рыкнул в толпу фамилии нужных людей, что толпа, охнув, тут же исторгла их. Впрочем, и Лев Николаевич, и его друг Николай Алексеевич уже давно сами пробивались ко мне, и горлан-агитатор всего лишь придал им сил устоять в людском потоке, хлынувшем в актовый зал.
В тот вечер я не сделал ни одной ошибки, ни одного сбоя. Мне казалось, что я участвую в каком-то грандиозном шоу, в котором играю главную роль не то председателя правления альтернативного Союза писателей, не то главы никому не известной политической партии, установившей связи с масонской ложей для проведения особо секретных акций в глубинке. Во всяком случае, моя речь хотя была и краткой, но достаточно насыщенной подстрочным смыслом. Постучав карандашом по графину (в президиуме вместе со мной сидели староста литобъединения, его друг, два Горьких и один Маяковский), я сказал дословно следующее: