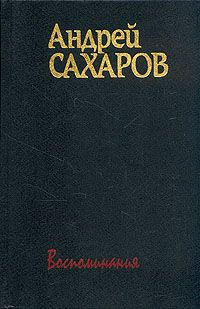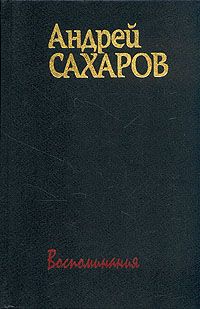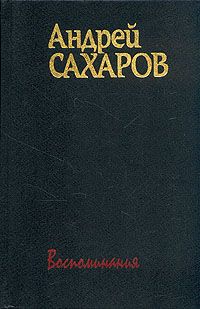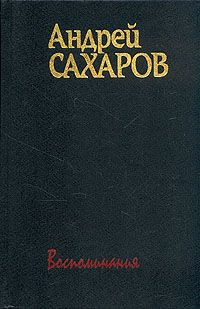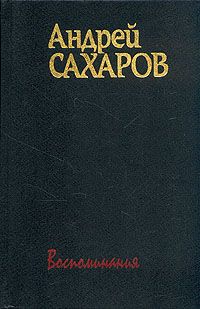Андрей Сахаров - Горький, Москва, далее везде
Я: "Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это - осуществление справедливости. Это - необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний". Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно - не помню. Я: "Я еще раз вас благодарю! До свидания!" (Получилось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал разговор. Видимо, я не выдержал напряжения разговора и боялся внутренне, что будет сказано что-то лишнее. Горбачеву не оставалось ничего другого, как тоже окончить разговор.) Горбачев: "До свидания".
Через три дня состоялась встреча с президентом АН Марчуком, о которой говорил Горбачев (не в квартире, а в Институте физики, куда меня привезли на директорской машине). Разговор происходил с глазу на глаз. Я впервые видел недавно избранного президента. Это был плотный мужчина среднего возраста, деловой, хваткий, типичный организатор науки новейшей формации. Марчук сказал: "Ваше письмо Михаилу Сергеевичу произвело на него большое впечатление. Я получил из Президиума Верховного Совета тексты Указов по вашему делу. " С этими словами он достал из нагрудного кармана пиджака помятую бумажку с рваными краями и прочитал (я на слух записал буквально, не исправляя синтаксиса: "1. Прекратить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова в административном порядке из Москвы. 2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании Боннэр Е. Г., освободив ее от дальнейшего отбывания наказания". Марчук добавил, что тексты Указов ему сообщили по телефону, он просит не ссылаться на него. Я заметил, что за неимением другой информации я буду вынужден ссылаться. Отвечая на мои вопросы, Марчук сказал, что он не знает даты Указов и что ему ничего не известно о возвращении мне наград (возвращение наград означало бы косвенное признание неправильности действий властей в отношении меня в 1980 году. Но, видимо, до такого дело пока не дошло). В целом, у меня осталось много неясностей, и среди них главная - да был ли вообще Указ о моем выселении или решение было принято на уровне КГБ. Единственный Указ, о существовании которого известно точно, - это о лишении меня наград.
Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвращение к активной научной работе, мою общественную позицию. "Я хотел бы понять ваше кредо в общественных делах. Вы обладаете большим авторитетом, к вашему мнению многие прислушиваются." Я ответил ему довольно развернуто, Марчук внимательно слушал. В некоторых пунктах он подчеркнул свое несогласие, в частности, это касалось линий действий СССР в так называемых горячих точках (я сказал, что политика СССР иногда объективно является провоцирующей), проблемы Афганистана и принципа "пакета", связывающего соглашения по вопросам межконтинентальных и евроракет с соглашением по СОИ. Я особо выразил свою заинтересованность в судьбе узников совести. Марчук сказал: "Учитывая, что вы поднимали этот вопрос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета следующее. Многие из интересовавших вас осужденных освобождены, или условно освобождены, или переведены на ссылку, некоторые получили разрешение на выезд за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел некоторых других лиц. Необходимым условием освобождения является, как мне сообщили, заявление об отказе от продолжения антиобщественной деятельности". Я резко возразил: "Это посягательство на свободу убеждений, ломка человека, это неправомерно и несправедливо". Марчук сказал: "Излишняя концентрация на негативных явлениях, которые сейчас изживаются, может привести к вашей изоляции в академической среде, это мнение многих академиков, с которыми я говорил". Он упомянул о предстоящем в Москве Форуме по проблемам разоружения, я обещал подумать о своем участии. Я также высказал мысль о целесообразности моей встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т. п. Заключительная часть беседы касалась моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал о желательности привлечения к работе в ФИАНе Б. Л. Альтшулера.
Вечером того же дня (19 декабря) на телевизионной пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию на ядерные испытания, замминистра Петровский, отвечая на (инспирированный, конечно) вопрос, сказал: "Некоторое время тому назад академик Сахаров обратился с просьбой разрешить ему перебраться (!?) в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности в АН СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время находился вне Москвы. Одновременно принято решение о помиловании гражданки Боннэр Е. Г. Таким образом, Сахаров получает возможность вернуться к научной работе, - теперь на Московском направлении" (почти точная, на слух запись телепередачи). Стиль бесподобен, так же как "фигуры умолчания"! Обращают на себя внимание ссылка на Академию и на длительность "нахождения вне Москвы", как на причину возвращения. Об Указе в отношении меня - ни слова.
У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения счастья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кроме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, вызванное моим письмом М. С. Горбачеву от 23 октября, - хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не унизил и не взял на себя никаких юридических обязательств, ограничивающих свободу моих выступлений в важных вопросах, когда я "не могу молчать". Более того, я и по существу не обманывал Горбачева в отношении своих действий - я действительно хотел ограничиться только важными общественными делами. Тем не менее, я очень хорошо понимаю узников совести, для которых нелегко написать в качестве условия освобождения, что они не будут заниматься "антиобщественной деятельностью" (многие не написали требуемого и остались в заключении). Но вскоре все мои "рефлексии" отошли на задний план - неумолимый поток "свободной" жизни захлестнул нас, требуя ежедневных усилий и готовности принять на себя новую ответственность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, чем 7 лет назад.
22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и оставив в квартире большую часть вещей, выехали из Горького. Впервые за семь лет мы с Люсей вдвоем сели в поезд - до этого я только провожал ее, пока и она не "застряла" вместе со мной.
ГЛАВА 2
Вновь Москва. Форум и принцип "пакета"
23-го утром мы вышли на перрон Ярославского вокзала, запруженного толпой корреспондентов всех стран мира (как потом оказалось, там были и советские). Около 40 минут я медленно продвигался к машине в этой толпе (Люся оказалась отрезанной от меня) - ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непрерывные беглые вопросы в подставляемые к моему рту микрофоны. Это неформальное интервью было прообразом многих последующих, - а вся обстановка как бы "моделью" или предвестником ожидающей нас беспокойной жизни. Я говорил об узниках совести, призывал к их освобождению, называя много имен, о необходимости вывода советских войск из Афганистана, о своем отношении к СОИ и к принципу "пакета" (ниже, в связи с Форумом, я объясню все это подробней), о перестройке и гласности и о противоречивости и сложности этих процессов.
В конце декабря и в январе (с меньшей интенсивностью и в последующие месяцы) я давал интервью газетам, журналам и телекомпаниям Англии, Бельгии, Греции, Индии, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии, ФРГ, Югославии, Японии и других стран - по нескольку раз в день. Особенно запомнилось телеинтервью с прямой трансляцией через спутник из студии
Останкино - вся эта космическая супертехника, множество экранов с твоим странно-чужим лицом на фоне голубого неба и самое страшное - "черная дыра" телекамеры. В первой такой передаче переводчиком был Алик Гольдфарб когда-то переводивший пресс-конференции на Чкалова. Сама возможность таких передач поражала - как примета нового времени "гласности".
На меня и на Люсю легла в эти первые месяцы почти непереносимая нагрузка - но делать нечего, приходилось тянуть... Наша жизнь в Москве. Подготовка в письменной форме ответов почти к каждому большому интервью, иначе я не умею, печатанье их Люсей. В доме непрерывно люди - а мы так хотим остаться вдвоем, у Люси заботы по кухне - и не на двоих, как в Горьком, а на целую ораву. В 2 часа ночи Люся с ее инфарктами и байпассами моет полы на лестничной клетке - в доме самообслуживание! - а я опять что-то спешно пишу на завтра. Кроме интервью, еще масса всяких дел - письмо Горбачеву, о котором я пишу ниже, предисловие к книге Марченко, напряженная работа подготовки к Форуму, и люди, люди, люди - друзья, знакомые, просто желающие познакомиться, желающие уехать из страны, иностранцы, приехавшие в Москву и считающие своим долгом посетить Сахарова, послы всех европейских стран, посещающие Сахарова по поручению своих правительств, каждый день сумасшедшие, во время и после Форума - очень многие западные участники. Когда началось массовое освобождение политзаключенных, о чем я пишу ниже, Люся стала вести списки освобожденных, сообщая о новых освобожденных в агентства (естественно, сразу в два-три), а также сообщая о запинках на этом пути. Инкоры же - или радиокомментаторы - многое перевирают, и вот уже вместо сообщения Люси о голодовке Миколы Руденко с требованием ответить о судьбе забранного у него на обыске писательского архива мы слышим по западному радио, что академик Сахаров сообщил о голодовке Руденко с требованием эмиграции, а супруга лауреата заявила, что это дело якобы показывает обратную сторону политики кремлевских руководителей - слова, которых она не говорила и не могла сказать, это не ее стиль, мягко говоря.