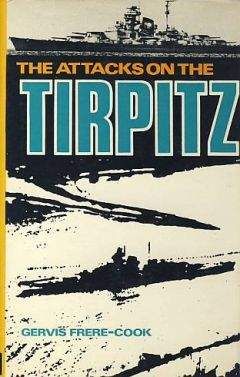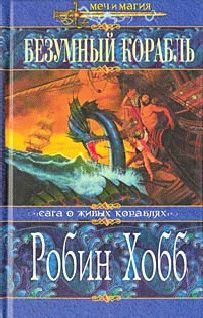Михаил Чельцов - Воспоминание смертника о пережитом
Внешнюю жизнь можно охарактеризовать одним словом "изоляция". Ни свиданий, ни прогулок, ни выходов из камер. Даже двери камеры открывались лишь два раза в неделю для выпуска меня в комнату отделенного надзирателя, чтобы взять мне присланную из дома передачу, - это по понедельникам и пятницам от 9 до 11 часов ночи, и по средам, чтобы в открытую надзирателем дверь передать ему заранее мною приготовленную обратную передачу. Даже форточка в двери всегда была на запоре со вне, из коридора, откуда закрывался тяжелым чугунным футляром и стеклянный глазок в двери. Надзиратели не имели права разговаривать с нами. Бывало, позвонишь, подойдет надзиратель к двери, станет как-то полубоком к тебе, чтобы его лица не было видно, на вопрос ответит неохотно, односложно и уже сам ничего не спросит и тем более ничего своего не скажет. Я сам не видел, но потом мои соузники передавали, что у камеры каждого из нас - смертников, стоял часовой с ружьем; он всегда подходил к двери, как только форточка открывалась для подачи нам пищи или кипятку. Чуков даже слышал, как при смене, вероятно, часового разводящий давал ему наказ стрелять "не попусту". Часовые стояли не более 2-3 дней, до получения из Москвы телеграммы о задержании приведения в исполнение приговора о расстреле нас. В эти первые дни очень часто, впоследствии гораздо реже - за нами, за нашим поведением в камере наблюдали. Вдруг, бывало, отодвинут чугунный заслон с глазка-оконца в двери и не успеешь подойти к двери, как уже наблюдающий глаз исчезает и заслон задергивает оконце. Зачем эта слежка нужна была: обычный ли это порядок из опасения самоубийства или переговоров с соседями и даже побега, - или специально за нами следили, этого сказать не могу. На первых порах эти заслонные щелканья сильно нервировали и заставляли всего опасаться, а потом я к ним привык и почти уже не обращал на них никакого внимания. О нас же эти наблюдения могли одно лишь по начальству доносить: все-де молятся и по камере ходят. Насколько сильно подействовала на надзирателя молитва митрополита Вениамина, об этом свидетельствует такого рода донесение со Шпалерной на Гороховую (что нам передавали официально осведомленные о сем лица): "Митрополит молится по 14 часов в сутки и производит на надзирателей самое тяжелое впечатление, почему они отказываются от несения ими их обязанностей в отношении к нему". Не этим ли приходится объяснять то, что за последние две недели были у нас частые перемены в надзирателях. Сидение без гуляния тяготило больше дух, этим сильнее подчеркивалось твое исключение как бы заживо из списка людей сего мира и дела. Тело же пользовалось воздухом в достаточной степени от открытого окна. Я его не закрывал ни на одну минуту, даже боялся и не знал, можно ли его закрывать. Да и погоду Господь Бог послал в то лето самую для узников благоприятную. Жаркое солнышко сменялось частыми дождиками и не было ни жары с духотой, ни холода с сыростью. Благодаря Бога за такое благоприятное для нас растворение воздуха, я часто думал об огородных моих работниках (семейные мои имели в то лето до 100 саженей земли под огородом) и жалел, что им приходится часто мокнуть и зябнуть, так что тяжелые их труды не покроются желательными результатами. Так оно и вышло: на огородах многого не выросло от излишней сырости и мокроты.
Итак, всякие разговоры с нами надзирателям были запрещены. Но люди всюду люди. С одной стороны, они любопытны и потому любят порасспросить, особенно при беспрерывном суточном окарауливании в мрачном одиночестве и жуткой тишине; с другой стороны, по душе-то мы, русские, все хороши, доброжелательны и сердечны: душа влечет оказать или даже сказать что-либо доброе, приятное, утешительное, - особенно смертнику. И на Шпалерке дня через два по водворении меня туда надзиратель сам, без моего к нему вызова, открывши дверную форточку, шепнул мне: "не бойтесь, расстрелов не будет". "Почему вы так думаете? разве известно что-либо?" спросил я изумленный и обрадованный... "Да так, по всему это видно". Хотел я его что-то еще спросить, но он быстро захлопнул дверцу, прибавив лишь: "Будьте спокойны" ... Пустяшное известие, ничего в нем определенно приятного не было, а как радостно после него чувствовалось. Естественно появилось бодрое настроение и какая-то, правда, недолго-жизненная уверенность в благоприятном решении нашего дела.
Особенно сердечно относились ко мне две надзирательницы, одна сменившая другую. Обычным предварительным к надзирателям подходом стал вопрос о выделении подарка или выделении чего-либо съедобного из изобилия приносимой провизии. Сначала они отказывались принимать, но моя настойчивость и предложение, что если не хотят взять себе, пусть передадут голодающим арестантам, побеждала их сопротивление. А дашь булку, невольно что-нибудь и спросишь и ответ получишь очень уклончивый, данный полушепотом и после предварительного внимательного обзора кругом: нет ли кого-либо подслушающего или подсматривающего. У них же всегда первым вопросом бывало: откуда я, от какой церкви, есть ли у меня и какая семья. Одна из надзирательниц стала мечтать как бы помочь мне установить сношения с семьей. Другая, вероятно, в желании мне оказать приятное, сообщила, что сама она прочитала в газетах о состоявшемся будто бы помиловании нас. Конечно, сообщалось все это отрывками и в микроскопических дозах. И ждешь бывало двое суток, когда они опять на третьи сутки явятся снова на дежурства, чтобы узнать и порасспросить о всем подробнее. А за это время радость от первичного сообщения заменяется тоской от разложения его на составные части, полные печали и безнадежности.
Очень любовно относился ко мне из надзирателей один, незадолго до выхода из Особого Яруса приставленный к нам. Недельки за две до выхода отсюда вечером он открыл форточку и тихонько сообщил, что сегодня он читал в газетах о нас, - о том, кого не помиловал и что моей фамилии там нет. "Да знаете ли вы мою фамилию?" спросил я его, но он быстро захлопнул форточку, сказав, что сейчас здесь, т. е. надо думать, около моей камеры начальство и что он потом ко мне зайдет. Восторг и радость. Но сейчас же - эти минуты хорошо сохранились в моей памяти - они сменились противоположным настроением. Думалось: значит, будут и расстрелы? а, быть может, и я среди обреченных? Ведь он (надзиратель) моей фамилии не знает. А как тяжело на душе от мысли, что все-таки кого-то из нас расстреляют, кого-то больше не придется видеть. В этим минуты даже любовь к собственной шкуре с эгоизмом как будто замолкли и притаились. Близость насильственной смерти другого не только умаляет, но даже почти совершенно прекращает радость от сознания собственной безопасности.
Часа через два, действительно, надзиратель снова явился у моей форточки и сообщил, что сейчас читал газету и там помечен не помилованным митрополит и еще трое. Но кого же? Фамилий он не запомнил, но опять уверял, что моей нет. Я начинаю перечислять ему фамилии смертников. Новицкий? - Да. Ковшаров? - Да. Этих я и в ранних своих предположениях всегда считал в первых номерах к расстрелу и не потому, конечно, что они виноваты, - они так же невинны, как и все другие, - а потому, что на них всегда обращалось особенное внимание судей наших, как будто бы главных виновников. А кто же четвертый? Я сам не мог назвать наверное фамилии. Говорю надзирателю: Чуков? - Нет. Богоявленский? - Нет. Чельцов? - Нет. Елачич? - Вот-вот, он, слышу я. И мне казалось, что Елачичу, как секретарю Правления, естественно быть среди расстрелянных. Но, быть может, надзиратель мою фамилию плохо разбирает. Переспрашиваю, - уверяет, что меня нет.
Самые приятные, страстно ожидаемыми днями на Шпалерке были понедельник и пятница - дни получения передач. Нетерпеливо они ожидались не ради получения пищи, но из ожидания получить весточку о своих дорогих, о их настроении, о переживании ими их горя, и что-либо, хотя между строк прочитать и о своей судьбе: не известно ли уже что-либо, не напишут ли о сем... Думаешь, гадаешь, что тебе могут написать и что хотелось бы прочитать в их письме. Часа в 3-5, бывало, начинаешь трепетно поджидать, когда щелкнет ключ в двери и тебя позовут к отделенному надзирателю за передачей. Обдумываешь, как читать письмо, откуда его чтение начинать: сначала ли, где идет перечень посылаемых вещей или с середины, где что-либо сообщалось о семье. Особенно эти обдумывания были важны по истечении дух недель сидения в ДПЗ, и это вот почему:
В течение первых двух недель еще не ожидалось никаких определенных вестей из Москвы. Затем - в эти же недели я получил точные сведения об Аниной поездке в Москву (о чем речь ниже) и о ее результатах. Поэтому в дальнейшем хотелось знать наверное и подробнее, что и как о нас решено в Москве. А письма семейных, в первой самой длинной и обстоятельной части, меня не удовлетворяли. В них подробно перечислялось, что и в каком количестве пересылалось мне из провизии. Проверить полученное по списку письма никогда не удавалось. Вся провизия передавалась не в семейной упаковке, а развернутой, разрезанной, смятой, набросанной в какую-то неопределенную кучу, где сахар лобызался с селедкой, булки не брезговали соседством, и притом самым близким, с киселем и т. д. и т. п. Да и не давали времени просматривать получаемое, побуждая поскорее взять и унести из комнаты отделенного, где провизия выдавалась, все так, как было проверкой все набросано. Дадут записочку препроводительную к передаче со многими помарками и заставляют здесь же в комнате ее прочитать, да все торопят, чтобы поскорее читал, забирая свою поклажу и убирался в свою камеру. Начинаешь читать письмо в нервном настроении и в такой тяжелой обстановке, в глазах замелькают перечень присланного. Пропустить его боишься из опасения, как бы в нем не было вкраплено от семейных что-либо интересного и важного для меня, - вкраплено с целью замаскировать сообщенное перечнем провизии. И только глазами перейдешь к тем строкам - паре, другой, кои в конце письма уцелели от карандаша и ножниц тюремной цензуры, как письмо берут из рук и тебя выпроваживают. Бывали случаи, когда и малюсенькой записочки не удавалось прочитать до конца. А, между тем, хотелось не раз, а 20 раз прочитать каждую фразу, вдуматься в каждое слово, найти в нем какой-то скрытый смысл и содержание. Думалось, что при известной строгости тюремной цензуры и при невозможности отсюда для них писать открыто и явственно, они между строк или иносказательно и метафорически сообщают мне, что нужно в письме найти, понять и раскрыть. Поэтому хотелось все слова и фразы письма запомнить, заучить, даже самое расположение не только слов в фразах, но и порядок фраз самих в письме.

![Майкл Муркок - Скиталец по морям судьбы / The Sailor on the Seas of Fate [= Моря судьбы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)