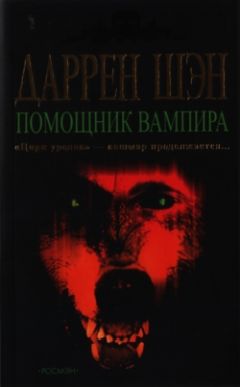Сергей Мстиславский - Откровенные рассказы полковника Платова о знакомых и даже родственниках
Он поманил стеком с высокой площадки подъезда извозчика, стоявшего на ближнем углу. Извозчик подобрал вожжи, тронул. Энгельсов стал спускаться, медленно, с таким расчетом, чтобы сойти как раз к тому моменту, когда подъедет пролетка. Так полагается людям хорошего тона: прямо из подъезда в экипаж. Он спускался медленно; медленно и устало спускались тоже, будто со ступеньки на ступеньку, мысли.
А может быть, и в самом деле так будет лучше — Николаевский?
Может быть, судьба? Перст Божий? На все ведь, в конце концов, судьба.
Вспомнилось, что полковник тоже забыл спросить насчет Энгельса и Полынина. Совсем как он сам у Гагарина.
На предпоследней ступеньке он обернулся влево, откуда должен был подъехать непонятно запоздавший извозчик, и увидел Ирину. В десяти шагах.
Она не смотрела в его сторону. Именно поэтому он почувствовал безошибочно и сразу: видела и видит.
Она поднялась очень легкая, очень быстрая и очень неторопливая — на подножку. Извозчик ударил вожжами, пролетка покатилась уверенным ходом упругих резиновых шин. Влево, назад, к углу, прочь от жандармского.
Не соображая, что делает, Энгельсов рванулся вперед, вдогонку, и крикнул:
— Стой!
На командный, на громкий оклик прохожие обернулись, многие остановились. Извозчик не обернулся и не остановился. Штаб-ротмистр увидел: рука — в желтой лайковой перчатке — прачкина рука, красивей которой не увидишь, тронула извозчика за плечо. Должно быть, сказала, потому что тот опять ударил вожжами и скрылся за поворотом.
Видела. Голову отдать.
Больше извозчиков не было, по всей улице. Догнать бегом? Нет! Прохожие все еще стояли и смотрели на высокого драгунского офицера со стеком, нелепо топотавшего на месте у высокого подъезда жандармского управления. Засвистал какой-то мальчишка. Офицер ударил стеком по голенищу сапога и поднялся обратно в подъезд, шагая через три ступеньки.
* * *На этот раз полковник не улыбнулся. Он выругался, выразительно и кратко, и нажал кнопку. Предстал лисьемордый. Выслушав сообщение о роковой встрече штаб-ротмистра, он цокнул языком:
— Д-дда… Незадача…
— Главное, ее надо взять, Ирину эту…
Энгельсов, забыв чинопочитание, расстегнул воротник кителя. Было душно и зябко.
— Если ее не взять…
— Всех возьмем, не беспокойтесь, — сказал сердито и сухо полковник.
Сказал уверенно, но по его глазам Энгельсов ясно видел: говорил он это для форсу, для жандармского престижа, а на деле — все уйдут, никого не поймают. И прежде всего уйдет Ирина. Из Кронштадта ушла, из Киева ушла. Уйдет и отсюда.
— Она, наверно, к Гагарину прямо. Гагарин изорвет свою прокламацию. Надо к Гагарину прежде всего…
— Вы простите, ротмистр, — совсем уже сухо сказал полковник, — но разрешите с вами попрощаться. К кому раньше, к кому позже — это мы сами знаем. Вы свое дело сделали, теперь мы будем делать свое. Честь имею.
Вихрев сидел на кухне с денщиком поручика Бирюлева, зашедшим его проведать: как-никак земляки. Оба замолчали и притаились, когда застучали тяжелым, волочащимся звоном шпор штаб-ротмистровы шаги по коридору.
Вихрев качнул головой:
— Лют вернулся. По аллюру слышно. А
"Лют" — подходящее слово. Войдя в комнату, Энгельсов смахнул на пол сердитой рукой белевший — насмешкой — на столе лист, исчерченный старательными росчерками:
Штаб-ротмистр Полынин Штаб-ротмистр Полынин Штаб-ротмистр Полынин,
Старое имя, новое имя… один черт. От старого — не отвяжешься теперь. Теперь, как ни назовись, будут говорить: бывший Энгельсов. Три часа назад не было бы этого. Теперь — будет. Теперь от Энгельсова не уйти: попал на заметку, раззвонят обязательно, кто выдал. «Выдал». И слово, как нарочно, придумали какое-то подлое: «выдал», "предал". Офицер офицера. Раньше не было Энгельсова — был штаб-ротмистр. Мундир, под мундиром — кожа, под кожей — мясо, кости: тело. Чье? Неизвестно. Может быть, Николаевского? Три часа назад. Теперь известно: Энгельсова.
Не снимая кителя и сапог, он лег на кровать. Так он ложился только, если очень сильно выпьет. Сегодняшнее стоило сильной выпивки. В голове было ломотно и угарно.
И все из-за нее. Из-за Ирины. Откуда ее нанесло? Следила? Тогда, у Гагарина, она не поверила. Очень очевидно. Но следить — нет. Просто случай. Судьба. Божий перст.
Он приподнялся на кровати и сжал кулак:
— За такой перст — по морде бить надо!
Время шло. Стемнело совсем. Зажечь лампу, что ли? Или сходить в жандармское, справиться: взяли, нет? Особенно эту, Ирину.
И от имени мысль опять — по кругу, по кругу, по кругу: не выскочить. О том, возьмут или нет, и о том, что, как ни назовись теперь, все равно будешь — Энгельсов.
Вопрос чести? Вы так думаете, поручик Гагарин?
Прокламацию из атласа фортификации он давно сжег, пепел выбросил, желторотый этот, чахотка бродячая, сидит, читает толстую книгу. Стук. Он открывает жандармам — в шароварах и рубахе, без кителя, заложив пальцем страницу. В комнате ничего подозрительного нет. В квартире ничего подозрительного нет. Без достаточных доказательств нельзя арестовать офицера. Офицер — не шпак. Шпака может взять за воротник любой городовой, офицера — никто не может, если нет доказательств, бесспорных, налицо. Честь мундира, ничего не поделаешь.
Он сбросил ноги с кровати:
— Вихрев!
Кухонная дверь хлопнула. Но Вихрев не дошел: в прихожей заливисто и тревожно зазвонил звонок; он бил языком беспощадно, захлебываясь, без остановок и передышки. Энгельсов слышал, как помчался бегом к парадному входу денщик, как завизжали петлями, раскрываясь в коридор, соседские двери; женский голос (Энгельсов сразу узнал: учительша, седая, кудлатая) выкрикнул пискляво, по-птичьи:
— Не пожар ли, храни Господь?!
На что другой голос, мужской, ответил хрипло, испуганно:
— Обыск!
Штаб-ротмистр вскочил.
Так. Наверно. Жандармы. За ним. Ни Ирины, ни Гагарина, ни Самойлова никого не поймали. Удар впустую, по воздуху. Полковник решил: Энгельсов разыграл с ним комедию. Нарочно, чтоб подвести охранное. Должен так решить: зачем он пришел в жандармское, Энгельсов? Взять справку о Полынине, которого пока и вовсе нет. Очевидно, приходил выведать. Союзный. От Николая.
Застучали шпоры. Они приближались к энгельсовской двери быстро, неистовым бегом. Жандармы. Наверно. Так.
Энгельсов сбросил китель, чтобы встретить жандармов, как встретил Гагарин, в рубашке и рейтузах. Дверь распахнулась. Брике, корнет одного с Энгельсовым эскадрона, бурей ворвался в комнату и, широко разведя руки, сжал штаб-ротмистра в объятиях:
— Ур-р-а!
Пьян? Нет.
Энгельсов высвободился с трудом:
— Что ты… спятил?
— В точку! — Корнет отступил на шаг, стал в позу, известную каждой девице по обложке популярнейшего романса "Гусар, на саблю опираясь…", и запел именно этот романс, во весь голос.
— Что? — выкрикнул Энгельсов и схватил корнета за плечо.
— Государь император, — захлебнулся восторгом Брике, — вернул гусарским и уланским полкам прежние наименования и — форму! Венгерки, венгерки, Энгельсов! Кивера!
— С помпонами и кутасами?
Вот почему сегодня, через три дня, в полку не должно быть Энгельсова. В гусарском полку… Еще бы! Это же не драгуны! Собакин знал. Слухи о восстановлении гусар и улан и прежнего их блестящего обмундирования — в целях подъема офицерского духа, сниженного неудачной войной и революцией, ходили уже давно. Но что это в самом деле случится…
— Вихрев! — крикнул Энгельсов так, что в окне задрожали стекла. Волоки, что там у меня есть! Мадера, коньяк… Два стакана. — Он перекрестился. — Господь Бог мой! Мечта всей моей жизни! Гусар!
Вихрев торопливо зажег лампу и принес бутылки и стаканы.
— Некогда, — заторопился Брике. — Я ж только на минутку… за тобой. Наши все уже в собрании. Там чествуют. Собакин — в новой форме.
Через три дня! Ну знал же заранее, конечно…
Энгельсов, проливая коньяк на стол, наполнил стаканы:
— Здоровье государя императора. Ур-ра!
— Ур-ра! — подхватил Брике. — Вихрев, ты чего стоишь, как дубина? Кричи «ура» Его Величеству. Все время кричи, пока мы пьем. Так кричи, чтобы глотка лопнула.
Денщик вытянул руки по швам:
— Ур-р-а-а!
Энгельсов выпил до дна и, поставив ногу на стул, разбил стакан о шпору.
— После такого тоста — из этого стакана не пить.
Вдогон звякнули осколки Бриксова стакана.
— Да… Это вот — царь! Этот понимает, что нужно офицеру. Не то что папаша, Александр Третий, — помянуть нечем.
— Пехотный был царишка, — подтвердил Энгельсов. — Самому на коня не сесть было, так он — себе под масть — всю кавалерию запехотил, оборотил гусар и улан — в драгун. Без малого ездящая пехота! Никакого блеска — ни в строю, ни в бою. Срам. А царь Николай недаром лейб-гусарский мундир особенно любит… этот понимает, что у настоящего человека от помпона и кутаса, от ментика и ташки — душа горит!