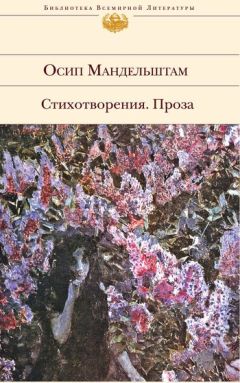Осип Мандельштам - Путешествие в Армению
Первое столкновение в чувственном образе с материей армянской архитектуры.
Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натыкается на заплссневший хлеб природы или на каменный пирог.
Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви.
Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну, конечно, толстостенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?
Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже — на какой-то глубине постыдные.
Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.
Так было у меня с армянским языком.
Я в себе выработал шестое — «араратское» чувство: чувство притяжения горой.
Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется.
Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении смирная. Так — церквушка в шестигранной камилавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми устами щелистых окон.
Дверь — тише воды, ниже травы.
Встал на цыпочки и заглянул внутрь: но там же купол, купол!
Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки.
Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг, восток — с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе места.
Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу — чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?
Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра.
Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.
Стукнув пальцем по коробу капитанского барометра, он шел во двор — к водоему и на клетчатом листке чертил кривую осадков.
Он возделывал малотоварный фруктовый участок в десятичную долю гектара, крошечный вертоград, запеченный в каменно-виноградном пироге Аштарака, и был исключен, как лишний едок, из колхоза.
В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками — невинная проба ума и таланта.
В нем был гул несовершенного прошедшего.
Труженик в черной рубашке с тяжелым огнем в глазах, с открытой театральной шеей, он удалялся в перспективу исторической живописи — к шотландским мученикам, к Стюартам.
Еще не написана повесть о трагедии полуобразования.
Мне кажется, биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда «Вертер».
Аштарак — селенье богатое и хорошо угнездившееся — старше многих европейских городов. Славится праздниками жатвы и песнями ашугов. Люди, кормящиеся около винограда, — женолюбивы, общительны, насмешливы, склонны к обидчивости и ничегонеделанью. Аштаракцы не составляют исключения.
С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял. Так кончается большинство армянских сказок. Многие из них записаны в Аштараке. В этом районе — фольклорная житница Армении.
АЛАГЕЗ
— Ты в каком времени хочешь жить?
— Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном — в «долженствующем быть».
Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная басмаческая честь. Оттого-то мне и нравится славный латинский «герундивум» — этот глагол на коне.
Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги как прообраз всей нашей культуры, и не только «долженствующая быть», но «долженствующая быть хвалимой» — laudatura est — та, что нравится…
Такую речь я вел с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагеза.
В Эривани Алагез торчал у меня перед глазами, как «здрасьте» и «прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снеговая корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабренные кручи.
И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов.
Кусок Алагеза жил тут же, со мной, в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла — камень обсидиан. Визитная карточка в пуд, забытая какой-нибудь геологической экспедицией.
Подступы к Алагезу не утомительны, и ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14000 футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь, как по маслу.
Из окна моей комнаты на пятом этаже эриванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагезе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле он складчатая система и развивается постепенно — по мере подъема шарманка диоритовых пород раскручивалась, как альпийский вальс.
Ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспомню, екает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова.
Деревня Бьюракан ознаменована охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту.
В школе к нам присоединился странствующий плотник — человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артелей, ни профсоюзов. Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика — по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде.
Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с дудочкой.
В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом было много возни.
Представьте себе грубую пасочницу — бабу в фижмах или роброне, с кошачьей головкой и большим круглым ртом на самой середине робы, куда свободно залезает пятерня.
Счастливая находка из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного внимания горожан.
Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами. Походка их безобразна, словно они больны водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, заметая пыль подолами.
Мухи едят ребят, гроздьями забираются в уголок глаза.
Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша — столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести.
Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.
Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное.
Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов.
На луке седла моего болталась неощипанная курица, зарезанная утром в Бьюракане.
Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямлянам, народу, который старше римлян.
Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Казалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте и, не подготовленные к валовому сбору, застигнутые врасплох, копошились в кошах, звенели посудой для удоя и запихивали в лежбище ягнят, спеша заключить на всю ночь и свое володарство — распределяя по лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, отсыревшие головы скота.
Армянские и курдские коши по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагеза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах.
Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему дворика с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат, как пожарища.
Проводники, взятые из Бьюракана, обрадовались ночевке в Камарлу: там у них были родичи.
Бездетные старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра.
Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготовляя дымный ужин и постельные войлочные коши.
— На, возьми войлок! На, возьми одеяло… Да расскажи что-нибудь о Москве.
Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубаху и обрядила ею мужа.
Я стеснялся, как во дворце.
1. Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.
2. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползают мокрицы.
3. Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку.
4. Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время — он прижимал виноградины к нёбу и был ловок, как кончик языка флейтиста.