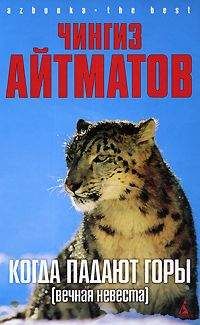Владимир Санин - За тех, кто в дрейфе !
Полярный день, круглые сутки солнце, хоть загорай, если нет ветерка, а лето на дрейфующей станции было для Семенова худшим временем года. Не только потому, что сырость одолевала, проникала в домик, в одежду, в постель, но и потому, что случись беда - самолеты летом не выручат. Некуда им сесть, самолетам. Ну, покружатся, сбросят почту, посочувствуют крылышками - и обратно. В летнее время полярник на дрейфующей станции оторван от Большой земли почти что как в Антарктиде, и эта оторванность, бывает, кое-кому действует на нервы, особенно первачкам. Их на станции трое: радиофизик Кузьмин, локаторщик Непомнящий и радист Соболев.
Как только полеты закончились и появилось свободное время, Непомнящий, лучший на станции художник, по заказу доктора расписал стены медпункта. Можно было бы обвинить Владика в излишнем натурализме, но женщины на станции отсутствовали, и протестовать было некому. Правда, мученик-пациент, в ягодицу которого чья-то безжалостная рука вгоняла чудовищных размеров шприц, был очень похож на Филатова, но Веня втихаря приделал мученику усы и бороду, после чего тот стал сильно смахивать на метеоролога Рахманова.
Семенов вытер сапоги о половичок, усмехнулся при виде прибитой к двери клизмы с табличкой "Сделай сам!" и через тамбурчик вошел в медпункт. С утра Бармин затеял профилактический осмотр, и приглашенные расположились на стульях и нарах, подавая доктору советы.
- Не исцарапайся о его ребра!
- Переводи дистрофика на усиленное питание! Дистрофик, он же повар Валя Горемыкин, поглаживал упитанный торс и благодушно огрызался:
- Заморыши! Неделю на манной каше сидеть будете!
- Помолчи, сын мой, - попросил Бармин. - Дыши... Не дыши. - Похрюкай два-три раза, вот так... На что жалуемся? Может, нужно чего оттяпать? Ну, одевайся, кормилец.
- Береги себя. Валя, - с любовью сказал Филатов. - Сам знаешь, то да се, подвижки льда...
- С чего обо мне такая забота?
- Как с чего? Ты же наш аварийный запас!
- Вот еще, - скривился Непомнящий. - Я верблюжатину не ем.
- Запомним, запомним, - одеваясь, мстительно проговорил повар. - Когда ты дежуришь, в пятницу? Будем делать котлеты.
- Прости, отец! - Непомнящий рухнул на колени. Худшим наказанием для дежурного по камбузу было крутить огромную, как лебедка, мясорубку. - Бес попутал!
Семенов тихо посмеивался в углу.
- Эй, на галерке! - прикрикнул Бармин, - Веня, раздевайся до пояса.
Филатов с готовностью спустил штаны.
- Может, выпороть мерзавца? - раздумчиво произнес Бармин, расстегивая ремень.
- Ах, до пояса, - догадался Филатов, поспешно натягивая штаны. - Так бы и сказал, что интересуешься верхней частью клиента. Дышать или не дышать?
- Потише, симулянты! - рявкнул Бармин, стягивая руку Филатова жгутом. Так... Сто на шестьдесят, упадок сил, будем тебя спасать. На завтрак дополнительное куриное крылышко, на ночь - питательный клистир. Не дыши... Покажи горлышко, а-а-а! Ах, какой у нас плохой зубик, дырочка в нем нехорошая... Болит?
- Ы-ы, - болезненно промычал Филатов. - Не трогай!
- Почистим зубик, пострел ты этакий. - Бармин погладил Филатова по всклокоченной черной шевелюре. - Хочешь послушать, как у дяди-доктора машинка работает?
- Зря с ним связываешься, Веня. - Дугин достал из кармана плоскогубцы. Давай я по-нашему, по-простому.
- Еще раз открой ротик. - Бармин вытащил из ящика стола коробочку. Скушай витаминчик, детка, и беги играть.
Тут же послышался шорох и из-за печки выполз Махно. Началось любимое всеми представление. Бармин потряс коробочкой - безотказный прием, превращавший Махно в отпетого подхалима. Он тут же сотворил стойку и замер с раскрытой пастью и затопленными елеем глазами: необходимое условие для получения волшебного лакомства, которое Махно любил больше всего на свете.
- Слабовато, - придрался Бармин. - Нет священного трепета.
Огромный Махно напрягся и по-щенячьи взвизгнул.
- Теперь то, что надо, - удовлетворился Бармин и швырнул в подставленную пасть два шарика. - Все, граждане, поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны.
Люди стали нехотя расходиться. Медпункт на станции был филиалом кают-компании, посещаемый тем более охотно, что хорошие фильмы уже по нескольку раз смотрели, а на остальные почти никто не ходил. Вот и тянулись люди к доктору...
- Как ребята? - спросил Семенов.
- Бизоны! Вот залечу Вене клык, и можно закрывать лавочку. Раздевайся, Николаич.
Личным составом Семенов был доволен.
За полгода до описываемых событий его вызвали в кадры института. Все тот же Муравьев, старый и совсем седой, но по-прежнему цепко державший кадры в сухих, изломанных артритом руках, неодобрительно взглянул на Семенова.
- Болтаешь много, Сергей.
- О чем? - Семенов пожал плечами.
- Того не возьму, этого не возьму... Кого дам, того и возьмешь! Вот тебе список, знакомься.
Семенов мельком взглянул на список.
- Людей, Михаил Михалыч, я буду подбирать сам.
Муравьев с силой ударил кулаком по столу.
- Возомнил! Думаешь, свет на тебе клином сошелся! Иди!
Семенов круто повернулся, пошел к двери и услышал:
- Погоди, давай торговаться... Кто тебе не нравится, Покатаев? Найди такого гидролога, из-за него десять начальников переругались!
- Их дело, - отмахнулся Семенов. - Циник, сквернослов... Вот что, Михалыч, зимовать с людьми не вам, а мне. В таком деле на торговлю я не пойду.
Так что в дрейф Семенов взял тех, кого хотел.
Как всегда в таких случаях, сел за стол и долго советовался с Андреем. И хотя Андрей уже давно не мог говорить, Семенов в его молчании угадывал одобрение или возражение, взвешивал, спорил, доказывал. "Каждый свой поступок проверяй с предельной беспощадностью", - напоминал Андрей, и Семенов обещал проверять. Было трудно и немного нелепо думать за двоих, почти что как играть с самим собой в шахматы, но Семенову и в голову не приходило видеть в этом игру, потому что, сосредоточившись, он явственно слышал голос Андрея и улавливал его мысли. "Абсолютно, предельно честен... ни грамма фальши" - это о Филатове. "Два раунда проиграл вчистую, третий за ним! Третий раунд, Сергей, самый важный!" - это уже в больнице, про Груздева. "Славный мальчишка такой, глаза - как дождем вымытые, пусть Костя Томилин воспитает" - о Соболеве. Потом, очнувшись, Семенов с горечью думал, что Андрея нет, но все равно, как всегда после разговора с ним, на душе становилось светло и покойно.
Не хотел Семенов брать Филатова - Андрей настоял, убедил; долго колебался, приглашать ли Груздева - опасался равнодушного оскорбительного отказа, но опять же Андрей настоял: прям, искренен, а что не подлаживается - тебе же лучше, будет на ком решения проверять. Минутко, опытнейший радист, в дрейф просился, а взял Соболева, мальчишку без биографии, за одни лишь чистые глаза, что так Андрею пришлись по душе. Хорошо работает мальчишка, лет через десять будет асом. "Товарища по зимовке выбирай, как жену выбираешь", - вспомнилось старое. За два месяца дрейфа не раз анализировал Семенов поведение, личности тринадцати своих товарищей и, хотя видел, что иные из них не совсем такие, какими казались на Большой земле, за выбор себя не корил. Впрочем, два человека оказались на станции по воле случая. За неделю до начала экспедиции попали в автомобильную аварию уже оформленные метеоролог и аэролог, и на их место срочно пришлось оформлять малознакомых людей. Рахманова, уже немолодого метеоролога старой школы, рекомендовал Пухов, а Осокина пришлось брать из резерва без всяких рекомендаций - просто другого свободного аэролога не оказалось. Пухов не подвел - Рахманов выполнял свои обязанности безупречно, Осокин тоже особых нареканий не вызывал, и через некоторое время Семенов с облегчением констатировал, что люди на станции притерлись друг к другу и коллектив начинает складываться.
Если под идеальным коллективом понимать группу людей, у которых нет недостатков, то такого коллектива нет и быть не может. Человек без недостатков безлик и скучен, как унылый, позабытый людьми заболоченный пруд; соблюдая букву неписаных правил человеческого общежития, он становится не личностью, а эталоном, которому место не в общежитии, а в музее. Впрочем, эталонные экземпляры пока что Семенову не встречались; попадались скорее тонкие мастера скрывать себя, но рано или поздно их изъяны проступали, как ржавые пятна сквозь побелку. К таким людям Семенов испытывал особое недоверие. На иные пороки Андрей научил его закрывать глаза, скажем, на скупость - для зимующего коллектива в ней большой опасности нет, негде ей развернуться; но предупреждал, если скупость не страшна, то скупой опасен, его ущербинка может неожиданно обнаружиться совсем в другой области, присмотрись к нему повнимательней. А вот чего никогда и никому не прощал Андрей, так это лживости, лицемерия и трусости. Семенов, перебирая в памяти своих товарищей, отмечал, что Филатов слишком вспыльчив, а Кирюшкин по-стариковски ворчлив, Дугин встречает в штыки самые невинные подковырки, а Томилин, наоборот, может зло пошутить, Груздев язвителен, а Рахманов чрезмерно мягок, но такие недостатки его не пугали. Они с лихвой перекрывались достоинствами этих людей, среди которых Семенов не видел ни лицемеров, ни трусов, ни себялюбивых эгоистов, опасных для еще не успевшего окончательно сложиться коллектива. Точила душу, правда, история с Мишкой - ведь выстрелил, в него кто-то, а любая жестокость, даже бессмысленная, не может быть беспричинной, не может. Вот и думай, гадай, ищи эту причину в отведенном Арктикой пространстве два на два с половиной километра...