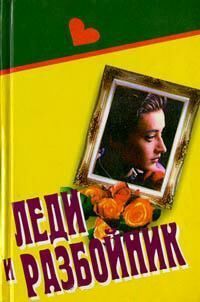Валерия Нарбикова - Рановесие света дневных и ночных звезд
В деревянные формы заливали жидкий цемент, выращивали кубы и пирамиды. Все ново-и-новоиспеченные, они лежали на берегу. Это был искусственный рельеф вместо природных скал и камней. Некоторые кубы, может, прошлогодние, может, позапрошло- уже обросли мхом и имели естественный вид. Линия берега была аккуратно разложена на кубики неким кубистом, но не Браком и не Пикассо, потому что это было не на картинке. Стая птиц летела так, что в перспективе казалась одной птицей. "Не споткнись", - сказал Аввакум. Сана споткнулась о тень. Ветер шевелил пустые пюпитры, похожие на пюпитры, они же тенты летом, ветер - это что такое? И даже то, что у человека называется сердцем и распространяет по всему телу дух, или силу, этот дух, или сила, называется ветром над морем, над асфальтом, домами, например, над парком, похожий на человеческий дух внутри. Но как называется сердце, которое его делает, неизвестно.
Ветер гнал домой. "Полегче нельзя?" - сказал Аввакум ветру, но кто же его послушал. Ветер дул в спину сильно. Попалась деревяшка и еще одна деревяшка сиденье от стула. На ней нельзя было сидеть, но можно было написать картину. Сана подобрала. "Зачем?" - "Напишу". - "Куда денешь?" - "Повешу". - "Брось".
В комнате алкаша пусто. Нет ничего, что можно разбить, что разбить жалко. Все небьющееся. Каждый предмет выдерживает падение, значит, находится в состоянии невесомости. Алкаш отталкивается от земли с той же силой, с какой земля отталкивается от него, невесомость - способ. Каждый предмет способен тут же заменить другой предмет - падаешь на стол, тогда стол - диван, ешь на диване, диван - стол, выходишь через окно, окно - дверь.
В антикварной комнате каждый предмет бьющийся, все жалко, негде ходить. Стул восемнадцатого века, на нем плохо сидеть, на нем в восемнадцатом веке хорошо было сидеть. Но он и не для сиденья. Из чайника нельзя пить, он тоже восемнадцатого века, треснул; люстра прошлого века, она плохо светит и совсем не греет; часы тоже прошлого, они не ходят, но других нет. Стул не для того, чтобы на нем сидеть, чайник не для того, чтобы из него пить, часы не для того, чтобы показывать время. И от предметов отходит душа, еще не отошла. Скорее, отходит сам предмет, и остается только название предмета, то есть слово, то есть дух. Стоит слово "стул", слово "чайник". Так же отойдет и море, как предмет, как стул, на котором сидят, и останется слово "море", и гора отойдет, как чайник, треснет; в конце будет слово, как и в начале было слово, и слово было все.
Бабкина комната не то что была бедная и грязная. Грязь, конечно, не переходила в эстетическую категорию. Бедность была пороком. Ее так же не получалось любить, как не получалось любить ближнего как самого себя.
Ветер продувал насквозь. Сквозь человека, как сквозь куст; он был внутри и снаружи, был везде. Но в объеме своем куст и состоял из ветра и веток: ветки замыкали определенный объем ветра, и по природе своей ветер естественно входил в природу куста. Ветер неестественно входил в природу человека, там для него не было места, он там был лишним, там был свой ветер, который гонял кровь. А уличный ветер накладывался на внутренний ветер, и это не нравилось, было холодно.
Они дошли до Яги, была уже ночь. Зачем? Потому что они там жили. Позвонили - никого. Зачем кто-то на ночь глядя прется через весь город? А затем, что он там живет. Инвалид должен быть дома. Хочется спать. Почему не открывает? Никого. Аввакум ударил в дверь ногой. Никого нет. Он должен быть дома. "А может, он думал, что мы внутри, ушел, а мы снаружи. А может, он думал, что мы снаружи, нарочно ушел. А может, он внутри?" Аввакум еще раз ударил. Никого. На этот стук приоткрыла дверь соседка, которая хорошая, которая водит в баню чью-то девочку, когда ее мама болеет, а не наоборот плохая, которая водит в баню чью-то маму, когда ее девочка болеет. Соседка не стала орать. "Вам кого?" - "Извините нас, у нас нет ключа, а мы здесь снимаем". Сказала, что старик, наверное, к дочери поехал, а старуха внизу сторожит: "Это как спуститесь, так обойти с этой стороны дом, и вход как раз под этим подъездом".
Они спустились, обошли и нашли вход. Позвонили - никого. Стукнули - нет никого. "Дура, - сказал Аввакум, - сводня". - "Ты постучи", - сказала Сана. Он по башке стукнул дверь, и еще раз.
- Слышишь, стучат, - сказал Чящяжышын.
- Не сюда.
- К нам стучат, во входную дверь. Аввакум зачем-то позвонил условным звонком. Потом надавил на кнопку и держал так больше минуты, а потом еще больше.
- Слышишь?
- Теперь слышу, - сказал Отматфеян, - звонят.
- Пойти посмотреть, что ли?
- А куда старуха-то делась?
Чящяжышын встал и пошел посмотреть. Как раз Аввакум еще раз стукнул. Чящяжышын открыл. Сана с Аввакумом увидели вместо старухи Чящяжышына.
Он сказал им, что он не сторож, а старухи-сторожа нет; они сказали, что снимают у старухи, а ее дома нет.
- Постойте здесь, - сказал Чящяжышын, - я сейчас приду.
Он вернулся в комнату к Отматфеяну.
- Там какая-то девица со своим приятелем, чего-то я ничего не понял, какой-то ключ им надо у старухи взять, старухи нет.
- Так гони их, - сказал Отматфеян.
- Нет, они вроде у нее снимают, а ее дома нет.
- Ну и что?
- Откуда я знаю, пойди сам и посмотри.
Отматфеян вышел. То, что он увидел, было не то, что он вышел. И то, что он вышел, было не то, что он увидел. Это было сразу то, что он вышел и увидел. Впотьмах. Он сразу узнал, ну и что, впотьмах.
- Здрасьте, - сказала Сана.
- Кого вам? - спросил Отматфеян.
- Вы сторож? - спросил Аввакум.
- Сторожа нет, что еще? - сказал Отматфеян.
- Больше ничего, - сказала Сана.
- Ничего, так ничего, - ответил Отматфеян.
- Пойдем, - сказала Сана Аввакуму, - "два педераста, не видишь", - "а что же ты, блядь, по ночам ходишь!" - сказал Отматфеян.
Он сказал это громко, но на самом деле он это сказал про себя, потому что про педерастов Сана тоже сказала про себя, но он это слышал, но она это слышала.
- Извините тогда, - сказал Аввакум.
- Да ничего, - сказал Отматфеян, - вы жене знали. Ушли.
- Опять к морю! - сказала Сана.
- Мы же к морю приехали.
Они пришли туда, куда приехали. "И зачем мы сюда приехали?" - "Смотреть". - "Сам смотри". Аввакум смотрел. То, на что он смотрел, было больше слышно, чем видно. Море было для ушей, невыносимое для глаз. Зима - это когда солнце дальше. Тогда и люди дальше от того места, от которого солнце дальше. Тогда в метро все время лето, в час пик - разгар.
Никто не купался. В воде не было социальных различий. Даже по плавкам определить было нельзя, потому что они тоже в воде, их не было в воде. Полное социальное равенство. Республики смешались на пляже. Ссорились, кто лучше: грузины или армяне, Москва или Ленинград, мясо или капуста, душа или тело: "А я считаю, что Ленинград ближе к Москве, чем Москва к Ленинграду". - "А я считаю, Москва ближе к Ленинграду. От Москвы до Ленинграда ближе, чем от Ленинграда до Москвы, и лучше". - "В смысле "лучше"?" - "А от Ленинграда до Москвы - хуже". Хуже в смысле дальше, лучше в смысле дешевле, интеллигентнее в смысле чище. Без смысла.
Над морем не было "ни та-та, ни печали", была пушкинская прозрачность, барковская энергичность, хотя и прозрачность тоже была барковская, "та-та" в данном случае не плохое слово, а только синоним веселья: над морем было ни весело, ни грустно. Посредине черного юмора маркиза и светлого юмора Баркова была пословица, в которой каждый зверь после этого дела печален. Но над морем не было и пословицы. Орудия труда с первобытно-общинного строя (а был ли такой? это когда все были родственники, когда милиционер был всем родственником?) совершенствовались, и главное орудие, которым делают то-то и то-то и деток, тоже модернизировалось: электрифицировалось, радиофицировалось.
- Мне надо, - сказала Сана.
- Садись здесь.
- Неудобно, могут увидеть.
Она отошла подальше в сторону, чтобы сделать то, что ей надо - смыться. Море смыло. "У тараканов есть крылышки". - "Зачем они им, они же бегают", - "А когда на земле нечего будет есть, они улетят". - "К звездам, что ли?" Выскочила из кустов. Смылась. "Ну почему Екатерина любила, когда ее в этот момент обзывали?" - "Ты ведь тоже любишь?" Аввакум, как котят, утопил Екатерину и Александру. "Я хочу, чтобы ты переспал с проституткой, я хочу, чтобы рассказал мне грязную историю". - "Не надо, у тебя потом будет сердце болеть". - "Рассказывай сию же минуту, а то я тебя убью!" Убила - смылась. "А это правда, что всегда, когда месяц, то всегда рядом с ним звезда? А потом она откалывается от него".
Она была перед дверью как раз тогда...
- Опять звонят, - сказал Чящяжышын.
- Лежи, я открою.
Отматфеян открыл. Он ничего не спросил. Она ничего не спросила. Он ответил: "Я не один". - "Я тоже не одна". Он сам себе ответил: "Слушай, это не гостиница. Куда я тебя, на стол положу?" - "На подоконник!"
Они разговаривали отвратительно. Но "отвратительно" - это обстоятельство образа действия, это зависело от обстоятельства. Само по себе действие было сладким, значит, оно было качественным прилагательным, потому что могло быть еще слаще. Они действовали точно по грамматике Ломоносова: имя, глагол, междометие; имя для названия вещей, глагол для названия деяний, междометие для краткого изъявления движения духа. Спали стоя, как некоторые животные, как многие, в стойле; стояли в раздевалке: вешалки для пальто, ящики для сапог. Мокрая дубленка на крючке. "Сапоги тоже снять?" Половая тряпка и ведро, банкетка. "Во что ты превращаешь любовь!" Динозавры тряслись, когда земля тоже тряслась, извергались вместе с вулканами, которые извергались, - эпически трахались.