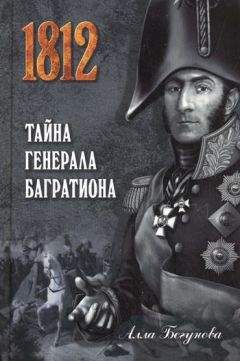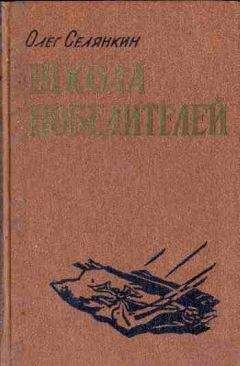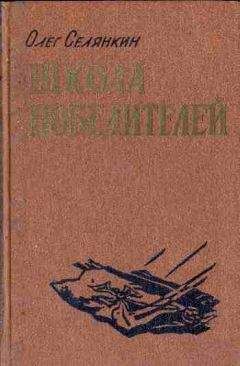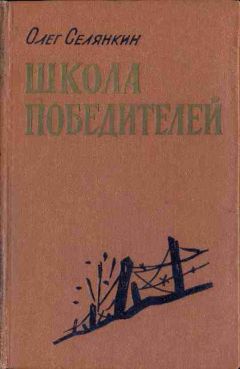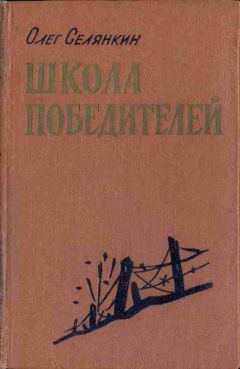Петр Якубович - В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
"После нашего свидания у окна кареты, – писала она, – я взяла извозчика и поспешила на железную дорогу. Но я приехала туда, конечно, позже тебя, как ни погоняла злосчастного ваньку, и потому не могла увидеть тебя, когда ты выходил из кареты. На платформу меня не пустили, как я ни просила, как ни молила жандармов. Пробраться туда тайком также не удалось- за мной приказали следить. Что было делать? Я прибегла к новой хитрости. Сделав вид, что примирилась с судьбой и приняла решение уйти совсем, я, выйдя из вокзала, вместо того чтобы отправиться домой, прошла некоторое расстояние медленными шагами и потом, быстро изменив направление, побежала в поле, по рельсам, рассчитывая, что поезд будет проходить мимо меня и я, быть может, еще раз увижу милое личико… Действительно, мне удалось обмануть бдительность аргусов; но, должно быть, я очень уже далеко зашла в поле, и поезд промчался мимо с ужасающей быстротой, так что ни одного лица я не могла различить. Но я утешилась мыслью, что хоть ты, быть может, видел меня… Я стала на возвышение, на камушек, и усиленно махала платком, пока проносилось черное чудовище".
Увы! я никого и ничего не видел… Я не смотрел в это время в окно, мне никуда не хотелось глядеть, даже в собственную душу, где было так пустынно, Так темно…{6}
Дальше все рисуется мне в каком-то смутном и беспорядочном виде не имеющих между собой связи обрывков. К счастью – как я сказал уже- везли меня в особых условиях от уголовной партии, и на этапах вплоть до Иркутска я помещался в отдельной от нее камере, с политическими товарищами. Если бы не это, не знаю, как бы вынес я все трудности дороги в том болезненном состоянии, в котором в то время находился. На барже у нас была особая комнатка в каюте, и особое крошечное отделение на палубе (конечно, тоже с решеткой), где можно было дышать свежим воздухом. От общей арестантской палубы оно отделялось простым парусинным брезентом. Помню, я очень любил сидеть на палубе, особенно ночью, и по целым часам вглядывался в темные берега Волги и Камы, бежавшие мимо. Помню, что эти уходившие назад берега казались мне собственным моим прошлым, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь в темную даль, стоявшую позади, я вздрагивал при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передние же берега, закрытые брезентом, выдвигались только маленькими частицами, соразмерно с движением баржи вперед; эти берега отождествлялись в моем больном воображении с будущим, таким же, как они, неизвестным. Днем я лежал обыкновенно в каюте, забившись где-нибудь в углу, и на палубу выходил очень редко. Вот почему у меня не осталось ясных воспоминаний о роскоши и прелести волжских и камских ландшафтов, которыми так восхищаются все вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическом освещении звезд или луны.
Среди моих спутников-интеллигентов, шедших в административную ссылку, я был один, осужденный в каторжные работы; вот почему я сравнительно мало ими интересовался, хорошо понимая, что нахожусь в их среде лишь как временный гость; гораздо больше, занимал меня тот мир, что скрывался там, за брезентом, и вскоре должен был стать родным мне… Хорошо помню, что долгое время я страшно идеализировал уголовных арестантов с их артельными нравами и обычаями. Они все рисовались моему воображению какими-то Стеньками Разиными, людьми беззаветной удали и какого-то веселого отчаяния… Среди маленькой кучки интеллигентов кандальный звон раздавался как-то жидко и прозаично; но там, за парусинным брезентом, где двигались сотни ног, звон этот имел в себе что-то музыкальное, властное, чарующее… Целые века слышала этот звон матушка Волга; в нем была передающаяся из рода в род поэзия, стихийная, безыскусственная… Там страдают без гнева, без жалобы и надежды, страдают, зная, что так и нужно, что иначе и невозможно: "Не взяла моя – значит, меня бей; а коли я опять сорвусь, так уж вы не прогневайтесь!.."
Особенно такие чувства вызывали во мне эти неведомые арестантские массы, когда по вечерам собирался их могучий хор и далеко по Волге разносились, под музыку цепей, дикие напевы, где слышалась то бесконечная грусть, то вдруг опять бесшабашная отвага и удаль.
Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, пей – тоска пройдет!
Первая моя попытка ближе подойти к этому поэтическому миру едва не стоила мне однако – чего бы вы думали, читатели? – глаза!.. Однажды под вечер, выйдя па палубу, я подошел к самому брезенту и прислушивался к несвязному шуму и говору, доносившимся из большого отделения. Вдруг я заметил в одном месте парусины небольшое прорванное отверстие, к которому и поспешил припасть глазом, чтобы ознакомиться с неведомым мне миром. Но не успел я хорошенько рассмотреть море бритых голов и всевозможных фигур современных Стенек Разиных, как чья-то грубая рука ткнула пальцем в мое импровизированное оконце, и я только очень быстрым прыжком в сторону успел спасти любознательную часть своего тела. Больше я уже не осмеливался подходить к отверстию; это было первое мое разочарование/ в этих людях, среди которых предстояло мне столько лет жить, первое свидетельство того, какой кромешный ад тьмы и ненужной злости, бессмысленной жестокости представляет этот таинственный мир, как он чужд мне и как много я должен буду выстрадать, живя с ним одной жизнью…
В Тюмени я впервые увидел лицом к лицу огромную партию арестантов на перекличках, происходивших во дворе тюрьмы. Боже! Каких только лиц тут не было – от самых симпатичных и мыслящих до самых отталкивающих и звероподобных; каких не было национальностей, каких имен! В особенности характерны были имена бродяг, составлявших почти половину всей партии. Иван Пострадавший, Петр Потерпевший, Семен Много горя видел, Хвостом на гору, Махнидралов, А я за ним, Непомнящий тридцати двух лет, и так далее, и так далее в том же роде. Любимыми также фамилиями были: Алмазов, Бриллиантов, Львов, Орлов, Соколов, Бурин, Ветров, Скобелев, Гурко и тому подобные громкие и гордые имена.
Но, собственно, только с Томска я начинаю помнить дорогу и все ее впечатления довольно живо и отчетливо. Однако спешу еще раз напомнить читателю, что ехал я хоть и вместе с партией, но жил отдельной от нее жизнью. Я имел свою подводу, отдельное "дворянское" помещение, пользовался сравнительным спокойствием и комфортом. В довершение всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью. Повторяю, что в это время я был лишь дилетантом-каторжником и если при всем том дорога была для меня сплошным кошмаром, то я боюсь даже и подумать о том, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении.{7}
Прежде всего – что такое этапный путь?
Представьте себе по всей линии бесконечного сибирского пути, который тянется от Томска до Сретенска (средоточия Нерчинской каторги), то есть на пространстве трех тысяч верст, разбросанные в двадцати – сорока верстах друг от друга огромные, мрачные здания с решетчатыми окнами, большею частью ветхие, осунувшиеся, веющие холодом, одиноко стоящие где-нибудь в поле или на краю села, в стороне от большой дороги.
Это и есть так называемые этапы – дорожные тюрьмы, в которых отдыхают и ночуют утомленные партии. Точнее выражаясь, из двух таких тюрем одна, поменьше, зовется полуэтапом и только другая, побольше и почище, – этапом; при последнем находятся казармы для местной команды солдат, конвоирующих арестантов, и квартира для офицера, неограниченного хозяина на пространстве двух и даже четырех подобных тюрем. На полуэтапах партия только ночует, утром следующего дня снова трогаясь в путь; придя на этап, она проводит следующий день в отдыхе, называемом поэтому "дневкою". Таким образом, каждый третий день проходит в бездействии, и этим движение партии, и без того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство от Томска до Красноярска (500 верст) проходится в месяц времени, от Красноярска же до Иркутска (1000 верст) в два месяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрее при тех же условиях – тоже немыслимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгим тюремным заключением и обремененные цепями, в своей тяжелой обуви и ветром подбитых полушубках, все, кроме положительно больных и увечных, идут пешком, и проходить в день больше тридцати верст круглым счетом, без отдыха через два дня в третий, были бы положительно не в состоянии.
Не могу не сказать тут же несколько слов об арестантской одежде. Сибирская администрация, ближе знакомая с климатическими и другими местными условиями, глядит сквозь пальцы на присутствие у арестантов в дороге собственных вещей. Я не говорю уже о том, что, помимо практических соображений, и простая справедливость требует менее строгого и формалистически-жесткого отношения к арестантам, находящимся в пути, только что начавшим свое многострадальное каторжное поприще и окруженным всевозможными неудобствами и лишениями; другое дело – после прибытия на место назначения, где жизнь имеет прочные устои, идет по раз установленной колее. В России чиновники не руководствуются, к сожалению, ни отвлеченными, ни практическими соображениями и неукоснительно следуют букве инструкций. В Москве у меня отобрали все свое и отправили в дорогу в одном казенном одеянии, отняв даже иголку и нитки, и мне пришлось страшно зябнуть, простужаться и вынести много не нужных ни для кого лишений и страданий. Казенные вещи не приспособлены ни к переменам погоды и климата, ни к особенностям отдельных индивидов; все подведено под один ранжир – и рост, и здоровье, и привычки, – тело, как и душа. Так называемые, например, наушники казенной шапки оказались пришитыми таким образом, что лежали у меня на спине, точно я был заяц, а не человек; ноги мои, завернутые в жиденькие холщовые онучки, тонули, как в бездонных бочках, в броднях-левиафанах,{8} и я не мог в них ходить по-человечески; напротив, узкие брюки с трудом натягивались на ноги и немилосердно поролись по всем швам, треща при малейшем неосторожном движении…