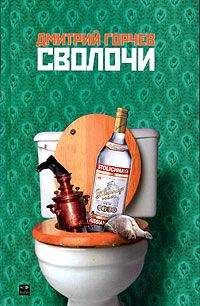Михаил Волконский - Записки прадеда
Он приостановился, не зная, идти ли ему вперед? Возвращаться было все равно нельзя: он обещал быть вовремя на месте, и вежливость требовала, чтобы он был там.
Однако присутствие полоумного старика уж ни с какой стороны не подходило к тому делу, для которого пришел сюда Орленев.
«Нужно во что бы то ни стало удалить его, — решил он, — а то только помешает!»
— А я вас жду, — встретил его Гирли еще издали, как только заметил его.
— Вы ждете меня? Зачем? — удивился Сергей Александрович, подходя и здороваясь со стариком.
— А вот именно по тому делу, по которому вы пришли сюда.
— То есть как по тому делу? Вы разве слышали вчерашний разговор?
— Слышал!
— Зачем же вы пришли сюда? — спросил Орленев поморщившись.
— Потому что меня прислали. — Старик сидел на своем камне, не меняя положения скрещенных ног, и смотрел совсем серьезно на Орленева. — Камень, — сказал он вдруг, — есть побежденная материя: видите, он имеет совершенную форму куба. А это, — он показал на свои ноги, — знаете ли вы, что это такое? — Он снова глянул на собеседника и тут же продолжал: — Это — символ человеческого могущества, которое имеет четыре выражения… Да, — добавил он по-прежнему серьезно, — четыре выражения в трех измерениях бесконечности. Я говорю о высоте, ширине и глубине…
Камень, на котором сидел Гирли, был действительно кубический, плотно лежавший на земле, но от этого Орленеву не было легче и странные слова старика не стали яснее. Он, не заметивший вчера в нем ничего такого, что ясно выказывало бы его полоумие, теперь сразу увидел, что рассказы о повредившемся рассудке Гирли были вполне справедливы.
«Бедный старик!» — невольно мелькнуло у него, и он улыбнулся Гирли, как улыбаются детям, а затем мягко спросил:
— Зачем же вас прислали сюда?
Но старик ответил опять бессмыслицей:
— Чтобы я вам показал камень и что нужно сделать для того, чтобы держаться на нем.
Толка, очевидно, трудно было от него добиться.
Орленев несколько беспокойно огляделся кругом: не идут ли те, кого ждал он? Действительно, вышло бы как-то неловко, если и вовсе не смешно, что они могли застать его здесь в беседе с полоумным музыкантом, солидно усевшимся на своем «кубическом» камне со скрещенными ногами.
— Вы не оглядывайтесь, — сказал опять старик, как бы поняв движение молодого человека, — они не придут!..
— Кто «они»? — вырвалось невольно у того.
— Те, кого вы ждете.
— То есть как не придут? Почем вы знаете это?
— Знаю, потому что меня послал старик Зубов передать вам записку.
Орленев так и остановился, пораженный удивлением.
— Старик Зубов просил вас передать мне записку? Где же она?
Гирли не торопясь достал из кармана сложенную и запечатанную записку на синей бумаге и подал ее Сергею Александровичу. Тот распечатал и прочтя глазам своим не поверил.
Зубов писал, что он — не мальчишка или какой-нибудь безрассудный фендрик, чтобы так, зря, здорово живешь, драться с первым встречным, и что принять это всерьез мог только такой полупомешанный, как Орленев, а потому он, Зубов, и посылает к нему полоумного музыканта, с которым-де они и могут поговорить по душе, если желают. А большего Орленев недостоин и должен быть рад, что не поплатится за свою вчерашнюю дерзость более серьезным образом.
Это была наглая, до цинизма грубая насмешка, за которую Орленев даже отплатить не был в силах. Он скомкал записку, с сердцем бросил ее наземь и повернулся, чтобы уйти. Не оставаться же ему было с этим, видимо, лишенным рассудка стариком!
2
— Постойте, куда же вы? — услыхал Сергей Александрович за собой голос старого Гирли, когда собрался уходить.
Он обернулся, но не потому, что услышал оклик музыканта, а для того, чтобы спросить, когда собственно этот Зубов дал старику свою записку.
— Вы когда получили поручение от Зубова передать мне это? — показал он на валявшуюся на земле скомканную записку. — Вчера еще или сегодня утром?
— Не все ли вам равно? — спросил Гирли.
— Нет, не все равно. Неужели, если записка была вчера у вас в кармане, когда вы догнали меня, возвращаясь от Доронина, вы не могли тогда же отдать ее мне?
— Зачем?
— Хотя бы для того, чтобы я имел еще время вернуться и сказать этому Зубову, что так нельзя поступать.
— И наделать глупостей, — подхватил старик.
Орленев остановился. Он вспомнил опять, что старик полоумный и сердиться на него нельзя.
— Погодите, — продолжал Гирли, — вам спешить некуда. Я отдал бы вам записку еще вчера, если бы это было нужно. Но не в этом дело…
Несмотря на очевидную якобы нелепость некоторых слов и выражений этого старика, голос его был такой разумный по интонации и глядел он так умно и ясно, что можно было минутами забыть его полоумие.
— В чем же дело? — спросил Орленев возвращаясь. Гирли, пристально поглядев на него, сказал: «А вот сядьте!» — и показал на лежащий возле такой же, на каком сам сидел, камень, после чего продолжал, когда Орленев сел:
— Вы обижены, в вас теперь злоба кипит, вы даже на меня готовы сердиться…
У Сергея Александровича, правда, кипела на сердце горечь незаслуженной, «подлой», как он мысленно выражался себе, насмешки, и он лишь проговорил сквозь зубы:
— Я на вас не сержусь!
— Значит, сердитесь на того, кто обидел вас? Но послушайте! Обиды не создал Господь, а всего, чего не создал Он, — нет; значит, и обиды не может быть.
— Как же нет обиды, когда я чувствую ее?
— Вы чувствуете не обиду, а сердитесь, потому что с вами сделали то, за что у людей принято сердиться друг на друга. Заметьте: «у людей принято», то есть они как бы сговорились — давайте, дескать, сердиться в таких вот случаях. Ну, а вы станьте выше этого, не подчиняйтесь этому обычаю и увидите, что сердиться не на что. Условьтесь сами с собой в противном. Вот и все.
Орленев задумался. Опять в словах старого музыканта было что-то если не совсем такое, с чем можно было согласиться тотчас же, то во всяком случае можно было считать это хорошим, что не было дурно.
— Да, — возразил Сергей Александрович, — ударят тебя в правую — ты подставь левую щеку. Так поступают святые… Но я — не святой!
— Во-первых, почему вы словно с какой-то гордостью заявляете, что вы не святой? Каждый человек путем испытания может добиться, если захочет, и святости. Во-вторых, я вовсе не о том, не о евангельском тексте говорю. Я говорю, что ничего нет легче уничтожить устроенное самими людьми, не существующее на самом деле, то есть обиду.
Не смысл слов старика, идущий вразрез всему тому, что с детства внушали Орленеву, но его тихий голос и какая-то словно торжественная размеренность речи действовали успокоительно-властно.
Солнечное летнее утро сияло приветливо кругом, деревья весело зеленели, река сквозила своей серебристой поверхностью между их стволов, и в воздухе было так тихо и радостно, что сердиться и волноваться было как-то в самом деле не к месту… И это ли утро, или успокоительная речь старика, или то и другое вместе подействовало на Орленева.
— Хорошо, — сказал он, начиная рассуждать с полоумным Гирли, как с человеком, вполне обладающим рассудком, — хорошо, я, пожалуй, могу иногда взять на себя, подавить в себе, скажем, обиду. Но ведь это не удастся же всегда и во всех случаях жизни.
— Ничто не может противостоять твердой воле, руководимой знанием правды и справедливости, — проговорил Гирли, — и бороться за их осуществление — не только обязанность, но и долг каждого человека. Победитель в этой борьбе исполняет лишь свою задачу…
— Да, но не всегда можно выйти победителем.
— Нет, всегда. Ничто не может помешать человеку, стремящемуся к правде.
— А обстоятельства? Ну, бедность, например! Иногда она мешает человеку так, что он не в силах побороть ее.
Орленев сказал это под впечатлением того, о чем думал сегодня один у себя дома. Бедность, о которой он упомянул и о которой думал, надвигалась на него.
— Бедность, — подхватил старик, — бедность! Вы боитесь бедности, а не с радостью встречаете ее? Бедность вам может принести такое богатство, о котором вы и не мечтаете — богатство мудрости. Кто мудр, тот богаче богатых, богаче царей земных. Человек, живущий в довольстве, трудно воспринимает уроки жизни, и потому он несчастнее бедного. Вот вы в Англии жили — слышали, верно, о знаменитом Роберте Клайве?
Орленев не обратил внимания на то, что старик, оказывалось, знал, по-видимому, многие подробности о его жизни, и в эту минуту ему не показалось это странным.
История лорда Клайва, основателя английского могущества в Индии, бывшего там губернатором и вернувшегося в Англию с несметными богатствами, устроителя «Индийской компании», была известна Орленеву.