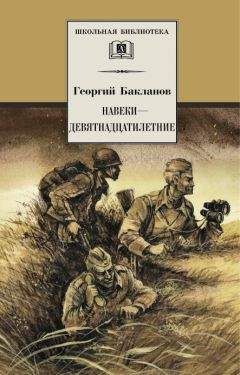Григорий Бакланов - Навеки девятнадцатилетние
Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно.
За обратным скатом высоты, в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь.
Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется-- и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу-- и конец его и начало,-- все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.
Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке.
Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался... Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма,-- закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.
Огонь лизал сальное, дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть.
-- Ты чего варишь, Кытин? Тот обернулся:
-- Проснулись, товарищ лейтенант?
-- Варишь, говорю, кого?
-- Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.
-- А как оно разговаривало?
У Кытина глаза сошлись в щелочки:
-- Бе-еэ,-- проблеял он.-- Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми наденете.
-- Они на солнце просохли.
Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.
-- Один градусник был, и тот украли,-- пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет, весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне: женщин. Особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.
Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган, черный, глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять,-- столько он ее наглотался ночью.
Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная, круглая голова: уже убитого, хоронил его другой снаряд.
Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок-- и впереди, и позади, и прямые попадания,-- огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе.
Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника.
Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.
Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Ча-баров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.
-- Ешьте, ешьте,-- сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо-- сладкое, сочное.
-- А что, товарищ лейтенант,-- спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него,-- на нашем фронте и воевать можно?
И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то, что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы, а они уже и поспать успели и поели-- вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой.
Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову назначить с ним в ночь двух человек -- разведчика и связиста,-- и тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает -- за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу,-- до них здесь так же сидели на траве,-- неужели от них от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная и боль-- все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час -- отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие-- Пушкин будущий, Толстой-- остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?