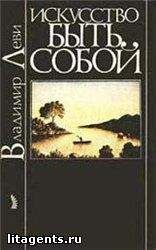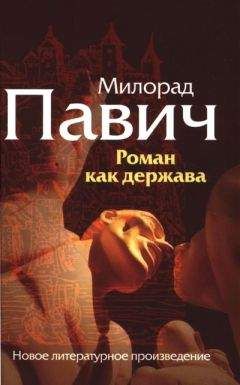Анатолий Королев - Быть Босхом
Все отказались, несмотря на то что продрогли до костей на октябрьском ветру. Вежливостью особиста пользоваться нельзя: собираясь на ужин с чертом, запасись самой длинной ложкой, гласит английская народная мудрость.
Нет писты, доложили последними повара.
Охальчук вскинул в ярости кулаки к небесам.
Да так и застыл навсегда в моей памяти в лаокооновской позе римского мрамора.
Послав батальон на хер, полковник скомандовал вольно, прыгнул в джип и уехал в запой.
Тут бы можно поставить точку, если бы, если бы не извечное излучение "однажды".
Однажды...
Его прилив окатывает наши судьбы с настойчивостью босхианской мании рисовать пожары.
Так вот, однажды вечером в наше офицерское общежитие стрекозой заскочила молодая девушка в джинсах от Левиса.
Я как раз писал роман о Босхе.
Гостья спросила старшину Стонаса.
Я ответил, что он на дежурстве, но девушка не ушла, сказав, что Стонас велел ей подождать. Тогда я набрал телефон коммутатора и попросил телефониста соединить с гауптвахтой. Солдаты охраны нашли Стонаса, и я передал девушке трубку. О чем они говорили, я, конечно, не слышал. И когда та сказала, что Стонас просил подождать, с досадой провел гостью на кухню, чтобы скрасить ей скуку долгой минуты чашкой чая с печеньем.
Нежданный гость хуже татарина.
Только тут я разглядел ее повнимательней.
Эту штучку и сейчас - спустя вечность - стоит хорошенечко разглядеть.
Она оказалась при ближайшем рассмотрении и вовсе девчонкой, лет 17, казалось бы, вовсе непримечательной внешности, но уже через минуту-другую я почувствовал ее скрытое обаяние.
Я превращаюсь из "я", в "он".
Приглядевшись к девушке, он почувствал сначала неясный прилив сдавленной нежности, нечто вроде легкой лунной зарницы, которая тихо всходит над летним садом желаний. У гостьи оказались легкие усики и мальчишеские манеры. В ней все сильней проступала манящая грация.
Достав губную помаду из сумочки, она подкрасила губы с таким чувством юмора, что мы оба расхохотались.
Ему, гастроному измов и столичному для тех мест жителю, странно было увидеть столь прелестное существо - и где! - в захолустном военном городке Бишкиль, где молодежь развлекалась тем, что шла посидеть на станцию в безобразный павильон размером с ларек, где юнцы звучно пускали злого духа под громкий смех девушек. А те из девчат, кто был посмелей, тоже попукивали в ответ.
В незнакомке сочеталась грация античного юноши с изяществом римской кошки, каких лейтенант увидит лет тридцать спустя на площади Монтечиторио перед зданием Палаты депутатов, бесовские ветерки черного света.
И что ей надо от Стонаса, горячо думает наш герой, чувствуя внезапный укол ревности. И к кому! К брутальному старшине, топорному выходцу из литовского хутора с выпуклыми глазами совы.
Правда, сова у Босха - символ великой мудрости.
И точно сова. Днем Стонас скучал, душа его слепла от яркого света, его время наступало только к вечеру, а ночами офицерских застолий он порой блистал, как черный алмаз, мрачными гранями крестьянского рассудка литовца себе на уме.
Одновременно с ревностью душу того гордеца-лейтенанта стал в ту минуту все сильней заливать свет встающей луны, тот призрачный дым желания, который, трепеща росой, окутывает волшебный лес у Шекспира в волшебную ночь, когда шаловливый Пэк брызжет в глаза влюбленным соком колдовского цветка. И в ответ каждая ветка распускается клювиком страсти.
Так вот, чем дольше незнакомка кружилась на кухне, тем сильнее тот лунный дым окутывал одинокое сердце лейтенанта приливом желания. Этот приступ желания был первым за месяцы того кошмара, куда угодил поклонник Кафки и Босха. Более того, он вдруг почувствовал, что его томление нарастает, что он готов чуть ли не силой сейчас же овладеть этой маленькой ведьмой с усиками подростка над ярким чувственным ртом между ног... казалось бы, тут уже дно всех желаний, но воронка вожделения была так глубока, что становилась уже почти исступлением плоти, а черная киска, раздув чуткие ноздри и чувствуя горение самца, все чаще касалась его щек и лица, ушей и рук легкими прыжками хвоста, она уже запустила свои нежные пальцы с заусенцами в ноздри эстета, хохоча смехом Лолиты над тем, как партнер открывает рот, чтобы глотнуть воздуха.
Тут в квартиру вошел удивленный Стонас и хмуро глянул в глаза гостьи. Уже заалевшая девушка слегка смутилась и, побледнев, пролепетала что-то и вовсе некстати. Кстати, за три месяца жизни бок о бок лейтенант увидел, что Стонас живет монахом-затворником, что его страсть это пытки и водка, но только не женщины.
Я очнулся на миг от наваждения и выразительно топнул на Стонаса мужским взглядом: оставь нас.
Босх.
Скорпион - символ соблазна. В средние века считали, что он способен вонзить ядовитый хвост в собственную голову и наслаждаться ядом.
Старшина мгновенно подчинился, тут же ушел из квартиры, и не знаю, читатель, который уже давным-давно все понял, в каком бы аду наш персонаж оказался в тот роковой час судьбы. Потому что в тот же миг, как Стонас ушел, блатная дива запросто оседлала колени того молодого лейтенанта, сев лицом вперед и дерзко расставив ноги, и, страстно целуя, она уже расстегнула молнию своих джинсов от Люэса, надетых поверх голого тела, где герой офицер увидел завороты курчавого омутка. А еще - змеиную чешую воровской наколоки вокруг пупка: круглый зев синей гитары в венке из роз. Весь живот гостьи покрывала густая татуировка! Люблю курить мужские сигары... Уже руки бестии, уже...
Через полтора года я увижу эту наколку на снимке голой убитой девушки.
Товарищ лейтенант, можно вас на минутку, крикнул Стонас из коридора. Проклиная безмозглого дурака, я вышел в коридорчик прихожей. Никого. Шагнул в открытую дверь на лестничную площадку. Никого. Спустился в недоумении еще ниже по ступенькам со второго этажа и увидел наконец старшину, который почему-то стоял, вжавшись в угол, и грыз свои адские ногти на крестьянских литовских лапах.
В чем дело?!
Он сильно притянул меня ухом ко рту и сказал громким шопотом: это мамка!
Какая мамка? - вымолвил я чуть раньше, чем ухнуло в землю прозревшее сердце. Я-то представлял себе какую-то шальную пьяную бабу, свинью, осоловевшую от поющего соловья в тесной манилке.
Какая-такая! Забормотал, досадуя, старшина. Ну мамка. Фоска! Солдаты харили ее строем весь месяц сразу в три дырки.
Она нимфоманка.
Но как... как же ее не нашли во время облавы? - зашептал я упавшим голосом, забормотал шепотом пылкого ужаса, не зная, что говорить, и холодея от морозных ожогов мысли, от встречи только что! не с живым существом, а с самим веществом порока. Бледная спирохета!
Она была тогда на плацу, ответил Стонас горьким смехом всезнания, в шинели, как все, и тоже достала хер.
Чей?
Свой. Она гермафродита!
Гермафродит! Прошептал я совсем потрясенно, машинально исправляя неверное произношение, хотя как знать, может быть, и стоит всем нам подхватить слово литовца Стонаса и переиначить порочное дитя Гермеса и Афродиты в Гермафродиту...
Но счет солдат шел точно по списку? - продолжал я цепляться за логику, чтобы как-то перетерпеть панику сердца.
Стонас помолчал, затем мрачно снизошел к моей глупости.
Они убили солдата второй роты подходящего ростом. Новичка, в первый день поставки, которого еще не успела запомнить охрана. Порубили топором на куски и увезли тело из столовки вместе с пищевыми отходами на свиноферму. А мамку переодели в его форму. Его слопали свиньи.
Что дальше?
Я физически не смог вернуться в квартиру с адской гарпией похоти. Накинув свой китель на поникшие плечи героя, старшина заботливо уводит меня в дом холостяка капитана Бакрадзе, где шла офицерская пьянка и где никто не заметил моего смятения.
Одним словом, томасманновскому Леверкюну из "Доктора Фауста" не хватило всего лишь в друзья такого вот верного советского старшины, отличника боевой и политической подготовки, фанатика службы, как литовец Стонас с глазами совы... И вот итог немецкого текста: лилии люэса украсили музыку гениального ницшеанца рождением трагедии из духа погибели.
Семь смертных грехов и четыре последние вещи
Хертогенбос.
Оторвав головку дикого мака, Босх растирает в ладони пахучую плоть дурмана и видит сквозь дымок запаха видения Иоанна на острове Патмос, дышит грозовым небом апокалипсиса над тушей вавилонской блудницы, зрит горизонт с очертаниями Рима, колесницы медных коней на крышах дворцов, башни победных колонн Траяна и Марка Аврелия, триумфальные арки Севера и Тита, обвитые дымом горящего Иерусалима, лицезрит кровосток Колизея.
Красота Великой блудницы порочна, как труп раскрашенной утопленницы на дне мелкой реки.
Но как нежна тень ракиты над размалеванной рожей похабницы.
Как подрагивает увеличительная линза воды над жерновами грудей, которые торчат из воды, как два колена, увенчанных раками, впившимися в мертвое тело.