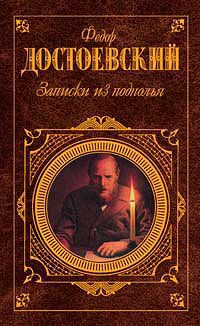Фёдор Достоевский - Бесы
Являлся на вечера и ещё один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тётку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато, именно тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё что́ угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. M-me Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушёпотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьёзно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.
— Все вы из «недосиженных», — шутливо замечал он Виргинскому, — все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности, какую встречал в Петербурге chez ces séminairistes[7], но всё-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.
— А я? — спрашивал Липутин.
— А вы просто золотая средина, которая везде уживётся… по-своему.
Липутин обижался.
Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них, и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древне-римское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что всё-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличён в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нём впереди. Немудрёно, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдалённо о своём положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:
— Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!
Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привёл было Липутин ссыльного ксёндза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.
IX
Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская весёленькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и кроме того необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта весёленькими мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалёзные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причём доходили иногда до строгих высоко-нравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадёт на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединённой Италии, и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плёвое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве и весьма хорошо, но несколько отвлечённо. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, — всё о лицах, намеченных в истории нашего развития, вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребёнка, и пр. и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень подливали, — а это случалось, хотя и не часто, — то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно, и задолго ещё начали осушать в честь его тосты. Это было ещё давно-давно, тогда ещё не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович ещё жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня, Степан Трофимович повадился-было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочинённые каким-нибудь прежним либеральным помещиком:
Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет.{21}
Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «вздор, вздор!» и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:
— А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.
И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.
— Cher ami[8], — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — поверьте, что это (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесёт пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать.
Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошёл великий день, прошло и ещё некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.
— Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, — заключил он свой ряд замечательных мыслей; — мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишённый притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель{22}, воскликнул в восторге: «не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дёгтя с bouquet de l’impératrice[9]{23}.