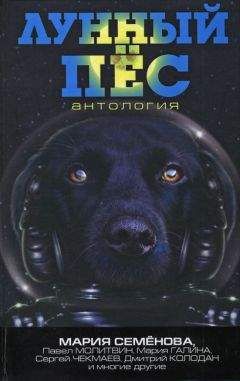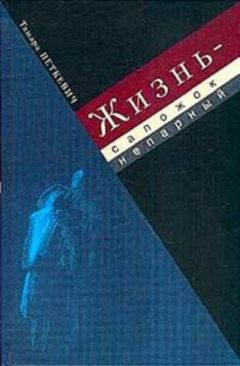Тамара Петкевич - Верность себе
- И, - сказала она, - вообще, если будут какие-нибудь просьбы, передавайте мне все через доктора.
Доктора, молчаливую женщину, не проявлявшую к нам ни внимания, ни интереса, мы видели крайне редко. И мне было дивно, что у сидевших рядом со мной людей могли быть какие-то особые контакты с персоналом тюрьмы.
Олечку торопили. Перецеловав всех нас, всплакнувших и взбудораженных, она ушла.
Ее освобождение на всех произвело сильное впечатление. Одна Вера Николаевна по каким-то причинам не разделяла общего радостного по этому поводу настроя.
В камере остались одни неверующие. Вера Николаевна, правда, не отказалась от борьбы за себя. Она не раскисала, оставалась подтянутой, так же подолгу взад-вперед ходила по камере. Учила меня тем французским пословицам, которые особенно нравились. Например: "Между кубком и губами еще достаточно времени для несчастья" или "Горе тому, кто чем-нибудь выделяется". Вера Николаевна правила мне произношение, и я с удовольствием повторяла за ней перекрытое французское "эн".
Человек умный, исполненный мужества и достоинства, она в быту часто оказывалась беспомощной и трогательной. Я все больше и глубже привязывалась к ней.
Об Эрике я думала все время. Едва дежурный надзиратель спрашивал: "Кто пойдет мыть пол? Добавку дадим", я тут же отзывалась. Не за добавку. За шанс возле дверей камер услышать его голос или самой подать ему знак. Но двери в камерах были окованы железом. Только иногда случалось уловить то ли стон, то ли хохот. Я мыла цементный пол тюрьмы. Выливая во дворе воду, успевала заглотнуть лишнюю порцию воздуха. И все.
Была середина марта. Полтора месяца следствия остались позади.
- А-а, княжну Тараканову привели! Садитесь, - пытался шутить следователь, вызвав на один из самых неканонических допросов. - Картину помните? Флавицкого, кажется?
И тут же вернулся к вопросу о Гитлере. Подобрался, стал официален, сух и напорист.
- Итак, вы говорили, что хотели прихода Гитлера.
- Я не хотела прихода Гитлера.
- Нет, вы хотели и говорили об этом.
- Нет, не хотела и не говорила.
- Говорили.
- Нет.
- Говорили.
- Нет!
- Говорили!
Тон следователя был безапелляционен. Я уже знала, что он с этого места не сойдет, не отступит. Как всегда в этих случаях, ощущение реальности и смысла истаивало. Душевное изнурение переходило в физическую усталость и безразличие.
- Разве можно хотеть прихода Гитлера? - все еще отстаивала я свое.
- Говорили. Хотели.
Продолжать тупую перепалку? Эту дурацкую игру? Борьба за свое "нет" показалась вдруг унизительной. Не мужеством вовсе, а трусостью.
- Хотела! Говорила! - выхлестнуло из меня.
- Что хотели? Что говорили? - переспросил следователь.
- Говорила: "Хочу, чтобы пришел Гитлер!"
- Но вы не хотели этого. И не говорили, - тяжело произнес он.
Тон был прост и укоризнен. А только что, за минуту до этого, следователь был глух и непробиваем.
- Не самым худшим образом я вел допрос, Тамара Владиславовна. Тот, "другой", на котором вы настаивали, допрашивал бы вас иначе, - серьезно и тихо сказал он. - Поймите, запомните: ночью и днем, при любых условиях ответ должен быть один: "Нет!", "Не говорила!". Поняли? Поняли это?
Что-то уловила, смутно, не очень четко: следователь преподал мне урок грамоты сражения. Но зачем следователь учит этому? Арестовать для того, чтобы учить освобождаться? Выходит, вообще жить - значит отбиваться от клеветы, гнусности и тупости? Я так не могла! Не хотела!
В ту же ночь с последовательной неумолимостью меня снова вызвали на допрос. И снова следователь был резким, острым, как нож. Мне предъявлялось еще одно обвинение.
- Вот здесь есть показания, что вы говорили, будто в тысяча девятьсот тридцать седьмом году пытали заключенных...
- Да, это я говорила.
- Но это ложь! - жестко оборвал следователь.
Впервые за время допросов внутри у меня что-то распрямилось, отпустило, стало легче дышать.
- Не ложь! Правда! Правда! Я сама видела у нашего знакомого, выпущенного в тысяча девятьсот тридцать восьмом году на волю, браслетку, выжженную на руке папиросами следователя. Я сама видела человека, у которого были переломаны ребра на допросах. В тридцать седьмом пытали. Это правда. И я говорила это! Это я говорила.
- Ложь! Клевета! Никаких пыток не было, - чеканил, срезал меня следователь. - Ясно?
- Были! Были! - утверждала я.
- Не было! - следователь вскочил.
Ценный урок следователя я обратила теперь против него:
- Были!!!
Моя запальчивость, внезапно обретенная, возродившая меня независимость торжествовали:
- Были!!!
Следователь подошел ко мне вплотную. В ту минуту я не боялась его. Он посмотрел мне прямо в глаза. Переждал какие-то секунды.
- Вы видите это? - спросил он, растянув губы и проводя пальцем по ряду своих металлических зубов.
- Вижу, - отозвалась я.
- Так все это, - сказал он медленно,- тоже было выбито в тридцать седьмом году... но... этого не было!!!
В последующие годы приходилось пережить немало шоковых потрясений. Этой встряски забыть не могла! И опомниться - тоже!
Долго еще что-то крутилось во мне, маялось, въедалось. Следователь уже что-то писал, сев на место. Я не могла проронить ни слова, ни звука.
Сбитая с толку, я потрясенно думала в камере: "Что же это за человек? Почему тридцать седьмой год? Правда? Ложь? Почему тогда он сейчас следователь? И как отважился мне сказать такое?"
Я очутилась лицом к лицу с таким разворотом жизни, который в канун двадцатитрехлетия было нелегко постичь.
29 марта 1943 года мне исполнилось двадцать три года. Было воскресенье. Дверь камеры отворилась, дежурный оповестил: "Передачи". Среди других назвал и мою фамилию.
Более всего я была обрадована тем, что Барбара Ионовна наконец смягчилась. Высыпала содержимое мешочка: лук, чеснок, вареные яйца, ватрушка. Что-то неясное, помню, смутило, но отчета в том себе не отдала. Всем раздала угощение.
Несмотря на то что в воскресенье следователи отдыхали, меня днем вызвали на допрос. Кабинеты были пусты. Коридоры особенно гулки.
- Получили передачу?- спросил следователь.
- Да, спасибо, что разрешили.
- У вас ведь сегодня день рождения. Поздравляю. Передачу вам принесла моя мать. Она тоже просила вас поздравить.
...Авторство передачи ошарашило. При чем тут мать следователя? Что за ересь? Значит, Барбара Ионовна и сегодня не пришла ко мне?
Я вдруг поняла, что ватрушка и яйца вкрутую куплены самим следователем в тюремном ларьке. Чувства унижения и обиды были неодолимыми. Я еле-еле сдерживалась, чтобы не заплакать.
- Что вы можете сказать о Николае Г.? - безжалостно приступил к допросу следователь, вернувшись к ленинградской теме.
О Коле Г.? Я была уверена, что он на фронте. Вспоминала о нем тепло. Коля когда-то любил меня, моих сестер, маму.
- Коля? Романтичный, добрый, порядочный человек.
- Романтика! Романтика! Когда вы научитесь смотреть на все трезвыми глазами? Почему все время за иллюзии прячетесь?
В хаосе допросов я давно поняла, что следователь добивается от меня своего "понимания вещей". Но это было недозволительно. Абсурд! "Какое ему дело до моих иллюзий? Куда он лезет?" - неприязненно думала я и запиралась на все замки от "личных" вопросов.
Не сумев вызвать меня на продолжение разговора, он протянул мне лист бумаги.
"Протокол допроса Г. Николая Григорьевича, осужденного на 10 лет по статье 58 часть вторая" - прочла я. - Год 1941-й".
"Коля тоже арестован? Осужден? Прошел эту же страду? Бедный!" Среди прочих вопросов и ответов такой: "Что вы можете сказать о семье Петкевич?"
Коля давал показания: моя мама и я систематически вели антисоветские разговоры и вовлекали в них его. Мы, то есть я и мама, были злостно настроены против советской власти и т. д. Из протокола явствовало, что мы с мамой сбили его с пути истинного.
Свет померк в глазах. Нет! Нет! Только не это. Он сам так не мог говорить. Его били, заставили. Не иначе.
Следователь распространялся относительно моих заблуждений и неумения смотреть на мир здраво. Его сентенции просеивались сознанием. Удар был слишком сильным. Казалось, после этого не смогу принять никакой боли. Однако главное только ожидало.
Неожиданно он спросил, нет ли у меня какой-нибудь просьбы. Он, мол, готов ради дня рождения выполнить любую.
Просьба? Была. Самая огромная из всех. Постоянная. Сущая.
- Дайте мне свидание с мужем! - выдохнула я с трепетом, с надеждой, только что зашибленная предательством давнего друга.
- Зачем? - заледенев при имени Эрика, спросил следователь.
Что можно было ответить? Для того, чтобы увидеть его, понять, как он и что с ним, ощутить себя необходимой, убедиться в том, что никаким арестам и тюрьмам не повлиять на нашу с ним жизнь...
Следователь снова порылся в папках, что-то достал и... опять протянул двойной, исписанный чьей-то рукой лист.