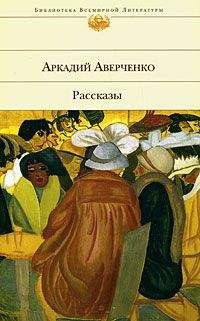Валентин Катаев - Трава забвенья
Он стоял передо мной, по-прежнему сухой, желчный, столичный, недоступный - мой прежний Ив.Бунин, о котором я все эти годы - даже на артиллерийском наблюдательном пункте - не переставал думать и который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания, и отступя на шаг - молчаливо рассматривал меня во всех подробностях, будто собирался тут же, не сходя с места, описать.
- Вы меня узнали? - спросил я.
Он ничего не ответил - мне даже показалось, не услышал моего вопроса, и продолжал рассматривать - я бы даже не побоялся сказать - читать меня, делая иногда как бы мысленные пометки на полях.
- Офицер. Георгиевский кавалер. Демобилизован. Вырос, возмужал. - Он покосился на мою правую ногу, которая еще не слишком твердо стояла на ступеньке. - Ранен. Но кость не задета?..
Я, по своему обыкновению, закашлялся от смущения. Он тут же навострил уши, прислушиваясь к моему хрипловатому, гораздо более глубокому, чем раньше, жесткому кашлю.
- Газы? - полуспросил он. - Фосген? - И протянул мне свою такую знакомую сухую руку с дружелюбно и откровенно открытой ладонью. Здравствуйте, Валя, - сказал он, как мне показалось, любуясь мною. - Молодой поэт Валентин Катаев!
- Давно ли вы в Одессе?
Я задал этот вопрос от смущения, так как уже знал о его бегстве из большевистской Москвы в Одессу, где на днях он напечатал несколько новых, еще неизвестных мне стихотворений, из которых одно представляло описание какого-то, по-видимому московского, поэтическою вечера и какой-то неизвестной мне поэтессы:
"Большая муфта. Бледная щека".
Затем, сколько помнится, эта поэтесса томно говорила:
"Кузмин, прочтите новый триолет".
И все это маленькое стихотворение заканчивалось короткой строчкой:
"Скучна, беспола и распутна".
Здесь был весь Бунин с его точностью, лаконизмом, желчностью и ненавистью к дилетантскому искусству.
Я заметил, что поэт Кузмин, кажется, никогда не писал триолетов. Бунин сказал, что не имел в виду Михаила Кузмина. Взял первую попавшуюся фамилию. "Если хотите, могу переделать его в кого-нибудь другого".
Из другого же стихотворения запомнились два кусочка. Первый:
"Где ты теперь? Дивуешься ль волнам зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам?"
И последний:
"Скажи поклоны князю и княгине. Целую руку детскую твою за ту любовь, которую отныне ни от кого я не таю".
Впоследствии я уже ни в одном сборнике не встречал этих стихов, но думаю, что если порыться в одесских газетах и журналах того времени, то эти стихи найдутся*.
______________
* Стихотворение напечатано в Собрании сочинений И.А.Бунина в 9-ти томах (т. 8, 1967, стр. 29).
Это был какой-то новый для меня, пугающий Бунин, почти эмигрант или, пожалуй, уже вполне эмигрант, полностью и во всей глубине ощутивший крушение, гибель прежней России, распад всех связей: лишь человек, понявший до конца, что жизнь кончена, мог написать, публично и печатно объявить о своей тайной, нежной, может быть даже преступной, любви, которую "отныне ни от кого я не таю".
Почему отныне? Почему не таю?
Да потому, что отныне уже ничего не будет. Все кончено. Он остался в России, охваченной страшной для него, беспощадной революцией. Она - княжна уже где-то далеко, во Франции, на берегу "зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам".
И потом вместо "передай" - это изысканное, великосветское: "скажи".
"Скажи поклоны князю и княгине".
В этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покорность. Такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью.
Мы спустились по Ланжероновской мимо городского театра, мимо газона с гербом города Одессы, составленного из высаженных здесь цветов, миновали античный портик Исторического музея, городскую думу, знаменитую чугунную пушку на ступенчатом деревянном лафете. Затем не торопясь пошли по Николаевскому бульвару от памятника Пушкину по направлению памятника дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе и рукой, протянутой в морскую даль, в "свободную стихию".
Дворец возле Лондонской гостиницы был занят немецким штабом, на подъезде стояли парные часовые в глубоких серо-стальных касках, высоко поперек бульвара висело резко-желтое - я бы сказал, осино-желтого цвета полотнище с резко-черной готической немецкой надписью, и Бунин, приостановившись, прочел своими дальнозоркими глазами орла: "Автомобилен лангзам фарен!", что значило приказание: "Автомобилям ехать медленно!"
Два или три австрийских офицера с саблями в никелированных ножнах стояли возле штаба, читая выставленные в рамках под сетками пространные машинописные оперативные сводки за подписью фельдмаршала Людендорфа, размноженные на ротаторе.
Было странно мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру, идти по русскому городу, занятому неприятельской армией, рядом с русским академиком, знаменитым писателем, который добровольно бежал сюда из Советской России, поддавшись общей панике и спасаясь неизвестно от чего на оккупированном юге, в какой-то выдуманной немцами украинской державе, которой правил никому не известный до сих пор гетман Скоропадский - личность почти опереточная, генерал или, может быть, даже полковник бывшей царской армии.
* * *
- Когда же мы с вами виделись в последний раз? - спросил Бунин.
- В июле четырнадцатого.
- Июль четырнадцатого, - задумчиво сказал он. - Четыре года. Война. Революция. Целая вечность.
- Тогда я к вам приехал на дачу, но вас уже не застал.
- Да, я уехал в Москву на другой день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, турецкого флота...
Мы помолчали.
Я увидел знойный июльский день. Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли, клочья прессованного сена, задирал хвосты лошадям, согнанным сюда из окрестных хуторов по конской мобилизации, небо со зловещим, металлическим оттенком и кровавый закат над городом, навсегда для меня связанный со стихами:
"Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия!" И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!"
И с другими, еще более страшными:
"Мама и убитый немцами вечер".
"Ах, закройте, закройте глаза газет!"
Их бесстрашно написал в дни патриотического угара все тот же молодой футурист, автор так восхитившего меня некогда стихотворения "Порт". Но теперь я уже знал его имя: Владимир Маяковский...
"Звонок. Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе глазет". "Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!"
Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. Но разве мог об этом знать Бунин? При нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию: Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга.
Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим не поделаешь.
Бунин быстро шел, выставив вперед бородку, и, вертя жилистой шеей, зорко осматривался по сторонам, как бы желая крепко-накрепко запомнить, а затем точнейшим образом где-нибудь описать все, что было вокруг: пятнисто-фисташковые стволы столетних платанов, замерший порт внизу под бульваром, длинный штабной немецкий автомобиль "бенц" серо-стального цвета, поворачивающий по асфальту за угол мимо постового - обыкновенного русского солдата с круглой чиновничьей кокардочкой на фуражке, украшенной каким-то странным трезубцем, что должно было обозначать принадлежность солдата к так называемой "державной варте" гетмана Скоропадского.
Полосатые тенты хорошо знакомых фруктовых магазинчиков на Екатерининской площади, где лубяные корзиночки с первой клубникой - крупной и сухой - и почти черной или бледно-розовой черешней, в зеркальных ягодах которой отражалось уже почти летнее солнце.
В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя я угадывал хорошо скрытое смущение, даже растерянность. Я узнал, что он приехал с женой, остановился в городе у художника Буковецкого, но на днях переезжает на дачу, куда и пригласил меня наведаться.
Так началось мое двухлетнее общение с Буниным до того дня, когда он наконец окончательно и навсегда покинул родину.
Опять дача за 16-й станцией. Но на этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его. А другая. Не доезжая до Ковалевской, по правую руку от трамвайной линии. Более степная, чем приморская. Но такая же типичная большефонтанская дача - ракушниковый дом под черепицей - с ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской сиренью и туями, сухими, пыльными, почти черными, с голубенькими скипидарно-мясистыми шишечками на слоисто-кружевных ветках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой, так густо заросшей диким виноградом, что когда вы после сияния знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота, а потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы.